ПЯТОЕ ЧУВСТВО ВАДИМА АНДРЕЕВА
О сыне Леонида Андреева Вадиме, о его судьбе и судьбе его книги
Опубликовано 6 Ноября 2013 в 04:42 EST
______________________
О НОВОМ АВТОРЕ "КРУГОЗОРА": Марина Гарбер - поэт, эссеист, переводчик, редактор, педагог, критик. Родилась в Киеве. На Западе с 1990 г. Жила в Денвере, Чикаго, Нью-Йорке (США). Ныне живет в Люксембурге. Окончила Денверский университет, факультет иностранных языков и литературы. Печатается в зарубежных литературных изданиях. Сборники стихотворений: "Дом дождя", 1996, "Город" (совместно с Гари Лайтом), 1997, "Час одиночества", 2000, "Между тобой и морем" , 2008. Зам. главного редактора альманаха "Побережье" (США). Автор многих литературных антологий.
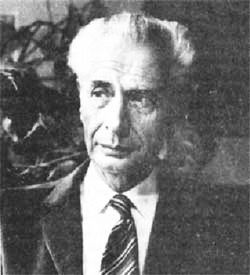 Острее мысли о еде, о пище является новое чувство, новая потребность, вовсе забытая Томасом Мором в его грубой классификации четырех чувств. Пятым чувством является потребность в стихах.
Острее мысли о еде, о пище является новое чувство, новая потребность, вовсе забытая Томасом Мором в его грубой классификации четырех чувств. Пятым чувством является потребность в стихах.
/В. Шаламов, "Афинские ночи"/
"Писательская судьба - трудная, жуткая, коварная судьба. В наше время в России - особенно. Кажется, никогда еще не приходилось писателям попадать в такое ложное положение, как теперь", - такими словами начинается статья А.Блока "Душа писателя", написанная в 1909, в период грядущих катаклизмов, когда истинные испытания были еще впереди, а "ложность" писательского положения только назревала. И теперь, почти век спустя, пытаясь навести резкость на смутную картину тех лет, практически невозможно с четкостью определить, кому из писателей удалось пройти сквозь туман и мглу эпохи, не утратив главного - творческую независимость, неповторимый голос, жизненные принципы и тягу к творчеству, а иногда и к самой жизни. Дух сомнений, состояние колебания и нестабильности, как в творческом, так и в социально-политическом плане (не говоря уже о сугубо бытовом) - превалирующие настроения того времени. И не нам, отделенным временным расстоянием от драмы страшной поры, судить о чьих-то человеческих слабостях, промахах и, порой, откровенных крушениях.
Невозможно так же однозначно утвердить, к кому в послереволюционную эпоху "писательская судьба" оказалась благосклоннее - к оставшимся у "алтаря русской культуры" или к эмигрировавшим за рубеж. В большинстве случаев судьба эта оказалась трагичной, и если не грозила неминуемой смертью, то зачастую оборачивалась "творческим тупиком", вынужденным или добровольным молчанием. Причем, в судьбах писателей-эмигрантов первой волны подобное состояние "повисания в воздухе" особо ощутимо. Пожалуй, некоторую четкость картина обрела в глазах эмигрантов второй волны: они уезжали из другой России, успев вкусить террора "кровавой диктатуры", и выбора "или - или" судьба перед ними не ставила. "Мне не знакома горечь ностальгии", - напишет потом И.Елагин...
А у первой волны были свежи воспоминания о былой России, были наивные, как оказалось, чаяния и надежды на перемены. Оторванные от своей культурной и языковой среды, искренне тоскующие по России (а тогда, как известно, чувство ностальгии не было набившей оскомину банальностью, ведь даже цветаевская "давно разоблаченная морока" горько иронична), обреченные на отсутствие массового читателя, они оказались в положении "одиночного плаванья", нередко заканчивающегося крушением, по меткому определению А.Несмелова. Безусловно, и в Париже, и в Берлине, и в Харбине существовали литературные объединения, издавались книги и журналы, проводились литературные чтения... Но круг творческого общения, при всей его внутренней интенсивности и насыщенности, оставался строго ограниченным, узким кругом.
В переломные исторические моменты писатели по-разному решали свою судьбу - как человеческую, так и творческую. Одни продолжали писать - для себя, для окружения, для "читателя в потомстве", наконец; иные замолкали - на какой-то период или навсегда... А другие возвращались в Россию, точнее, в страну, некогда так называвшуюся. "Для поэта-эмигранта нет пути назад: он потеряет либо голос, либо свободу, либо жизнь, либо всё вместе", - пишет Е.Витковский в предисловии к антологии "Мы жили тогда на планете другой". Упомянем лишь несколько имен из недолгого списка возвратившихся, добавив только, что судьба каждого из ниже перечисленных оказалась именно "трудной и жуткой", как предвидел Блок: Марина Цветаева, Алексей Эйснер, Мария Вега, Альфред Хейдок, Никита Муравьев, Юрий Софиев, Антонин Ладинский, Дмитрий Святополк-Мир-ский...
В этом списке могло бы оказаться имя Вадима Андреева, прозаика, поэта, мемуариста и журналиста, несостоявшегося "возвращенца", который, по выражению Витковского "буквально повис "между двух миров"". Дважды подавая прошение на предоставление ему советского гражданства и, наконец, в конце сороковых получив паспорт, но, несмотря на неоднократные визиты на родину, не решившись остаться, Андреев так никогда и не излечился от "эмигрантской болезни" - тоски по родине. И, пожалуй, трудно найти другого русского поэта-эмигранта, в творчестве которого ностальгическая нота звучит столь пронзительно...
***
Вадим Андреев родился 25 декабря 1902 в Москве, но вскоре после его рождения семья перебралась в Петербург. Он был старшим сыном знаменитого и, как заметил в свое время Блок, "самого читаемого" писателя Леонида Андреева. Мать Вадима, Александра Михайловна Велигорская умерла от родильной горячки вскоре после рождения младшего сына, Даниила, в последствии поэта-мистика и философа. С этого момента жизнь каждого из братьев потекла своим отдельным руслом. Глубоко переживая смерть жены, Леонид Андреев отказался видеть новорожденного сына, и Даниила взяла к себе на воспитание сестра его матери, в то время как Вадим остался с отцом. Вот, что пишет Алла Андреева, вдова Даниила, о детстве братьев Андреевых: "...он [Даниил - М.Г.] очень любил свое детство и всегда радовался и благодарил Бога, что вырос не в семье отца. Это и правда большое счастье. Потому что он вырос в совершенно замечательной семье, любимым младшим ребенком. Детство его старшего брата Вадима, который обожал отца, было, конечно, не таким светлым, каким было детство Даниила. Новая семья Леонида Андреева совершенно заслонила от него старшего сына, и ребенок трагически воспринимал свою ненужность в семье. Его Добровы тоже хотели к себе взять и воспитывать обоих мальчиков, но Вадим просто не мог жить без отца". Видимо, есть в этих словах большая доля правды, так как вскоре после смерти отца семнадцатилетний Вадим уходит из дома. Позже, в конце тридцатых, Андреев опишет своего отца и свое детство в автобиографической повести, так и названной: "Детство. Повесть об отце". В свое время о повести хвалебно отозвался сам В.Набоков. В интервью, данном журналу "Огонек", сын Вадима, Александр Андреев говорит: "Отец всю жизнь освобождался от тяжелого комплекса старшего сына известного человека, которого безумно любил. И книга "Детство" - тоже попытка избавления от "андреевского комплекса". Вадиму всегда были близки ценности Леонида, его литературные пристрастия. Но, думаю, второй брак отца остался для него душевной травмой на всю жизнь...".
Вадим окончил гимназию Линтовской, одно из самых престижных школьных учебных заведений Петербурга. В роковом октябре 1917 Андреевы не просто "уехали" в Финляндию, как обычно принято считать. Их дача, где находилась в то время семья, располагалась на Карельском перешейке в усадьбе Ваммельсу, на берегу Черной речки и оказалась на территории провозгласившей независимость Финляндии, т.е. за пределами России. Там, в Териоки Вадим учится в русском реальном училище. После окончания русской гельсингфорской гимназии, в конце 1920 Вадим идет добровольцем в уже редеющие войска Белой Армии и принимает участие в боях сначала в составе армии генерала Миллера, а затем - армии белой Кубанской республики. Примерно через полгода вместе со своей частью добирается до Константинополя, где некоторое время живет в военизированном лагере для беженцев, ведя полуголодное существование и пытаясь выжить, Андреев сочетает учебу в русском лицее с уличной торговлей. Однако вскоре его вместе с остальными студентами лицея отправляют в лагерь в Скутари на босфорском берегу (Турция), откуда он бежит, чтобы снова вернуться в Константинополь. Позже, во время учебы в русском лицее в Софии, Андреев встречает профессора истории Д. Уиттмора, которого покоряет умом и начитанностью. Благодаря этой встрече, комитет Уиттмора по поддержке эмигрантских студентов выделяет ему стипендию для продолжения учебы в берлинском университете на отделении истории живописи философского факультета.
Собственно, в Берлине, куда он переехал в 1922 году, и начинается его активная литературная деятельность. Здесь Андреев встречается с В. Маяковским, Б. Пастернаком, Н. Бердяевым, А. Белым, А. Ремизовым; посещает литературное кафе "Дом искусств"; участвует в нескольких литературных объединениях; публикуется в местных русскоязычных газетах; заводит дружбу с поэтами Анной Присмановой и Георгием Венусом, совместно с которыми издает сборник "Мост на ветру".
Год с лишним спустя поэт перебирается в Париж, где посещает Сорбонну, заводит новые знакомства и активно участвует в литературной жизни. Он часто бывает в знаменитом кафе "La Balle", где в то время встречались русские поэты, участвует в литературных чтениях. Андреев становится одним из организаторов "Союза молодых поэтов и писателей", входит в "Союз русских писателей" (из которого спустя годы будет исключен за членство в "Союзе советских патриотов"), принимает участие в группе М.Слонима "Кочевье", публикуется в первой эмигрантской антологии "Якорь", сотрудничает с престижными русско-парижскими журналами, издает две книги стихов... О поэзии Андреева в то время писали Г.Адамович, В.Ходасевич, А.Даманская и другие. К сожалению, критические отзывы на эти первые поэтические публикации и сборники были в большинстве своем отрицательны. Критики писали о надуманности андреевской поэзии, пышности и тяжеловесности стиля и даже об отсутствии жизненного опыта... Пройдут годы, прежде чем поэзия Андреева перестанет напоминать, по выражению Г. Адамовича, "упражнения" и "черновики", ибо по ним "пройдется еще оживляющая рука мастера"...
Естественно, "парижский период" состоял так же из внелитературных будней. В неопубликованном альбоме автографов поэта Александра Гингера Андреев оставил в те годы такие грустные строки: "Глухо стучит равномерный топор дровосека / Вскорости, может быть, завтра в лесу и в груди человека / Сердце уснет и останется жизнь позади"... Существуют пропитанные желчью воспоминания о братьях Андреевых А.Смирнова, из которых, если отсеять насмешливый, почти издевательский тон и фактические неточности, просматриваются черты характера Вадима: трудолюбие, независимость, чувство собственного достоинства, или, как говорили тогда, - честь: "Абсолютно всю жизнь принципиально нищий, Даниил Андреев всегда и во всех обстоятельствах вел себя, как независимый аристократ. В частной гимназии, потом преобразованной в советскую школу, где учился Андреев, педагоги и ученики называли его индийским принцем. Так же гордо пытался себя вести в эмиграции и его, очень на него похожий, старший брат Вадим, но его быстро укротили на американских кинофабриках, где он занимался ради хлеба насущного монтажом". Кинофабрики, на которых мастером работал Андреев, были не американскими, а французскими, и, чтобы выжить в трудных условиях эмиграции, Андреев не гнушался и тяжелого физического труда, работая чернорабочим.
Однако были в этих буднях и светлые праздники. Во Франции Андреев женится на Ольге Черновой-Федоровой, приемной дочери председателя Учредительного собрания России Виктора Чернова. Семья Черновых и их активная окололитературная деятельность - тема отдельного исследования, здесь же упомянем лишь атмосферу дружбы и взаимовыручки, в ней царившую. И даже объективный до язвительности В.Яновский в "Полях Елисейских" пишет о сплоченности и трудолюбии этой семьи: "В Кламаре жила многочисленная и крепкая семья "Черновых" - дочки Чернова вышли замуж за Резникова, Сосинского и Вадима Андреева. Колония "Черновых" жила дружно, хотя и бедно, и Сосинский с Андреевым, пока не взяли советских паспортов, считались "глубоко своими" и участвовали в "Круге"".
Во Франции у Андреевых рождаются дочь и сын. Но, несмотря ни на довольно насыщенную творческую жизнь, ни на бегущие годы, Андреева не покидает желание вернуться на родину. Вот, что вспоминает его сын Александр: "Мы всегда жили на чемоданах. Для отца и дяди весь смысл жизни состоял в том, чтобы вернуться. Победа в войне вселяла в них оптимизм (тогда более пяти тысяч русских парижан оформили советское гражданство). И ничто - ни рассказы о лагерях, ни свидетельства очевидцев - не могло их переубедить. Все усилия русской эмиграции по отношению к детям были направлены на то, чтобы они оставались русскими, чтобы не ассимилировались (даже отказывались записывать малышей, родившихся во Франции, гражданами этой страны, хотя они из-за этого теряли возможность получать пособия, стипендию для учебы и вообще какую-то защиту. Что касается нас - наверное, ангел-хранитель вмешался и шепнул отцу объявить своих детей французами). Я тогда верил в существование далекой, почти идеальной страны...".
Сын писателя утверждает, что война застала семью на западном побережье Франции, а не в Париже, как следует из других источников. Вот, что он говорит: "Я родился в Париже в 1937 году. Одно из первых ярких воспоминаний детства - война. Она застала нас на юго-западе Франции, на острове Олерон, куда мы впервые выбрались на летние каникулы. Чтобы прокормить семью, отец стал земледельцем и со временем научился неплохо вести хозяйство. Эта французская провинция оказалась под немецкой оккупацией". Из других источников следует, что в 1939 году Андреев был мобилизован во французскую армию, но в боях не участвовал и бежал на остров Олерон. О его побеге из Парижа бегло упоминает в своих мемуарах Яновский: ""[...] в Пуатье, на площади у кафе, где беглецы отдыхали в полдень, общее внимание вдруг привлек странный караван, состоящий из трех дамских велосипедов и одного мужского: чета Федотовых в первой паре, а за ними нордическая, растрепанная блондинка Нина и похожий на алжирца Вадим Андреев. На вокзал они уже не пробрались и весь путь из Парижа проделали на "педалях" в четыре, пять дней - благо подвернулся толковый спутник". И дальше: "Андреевы и Сосинские теперь проживали на острове Рэй, туда направились дамские велосипеды - к самому оплоту будущей атлантической стены". Там, на Олероне, Андреев и Сосинский стали активными участниками французского Сопротивления. В 1944 году Андреев был взят в плен, и только спешка отступающих немецких войск предотвратила его расстрел.
Как писалось выше, в конце сороковых (разные источники говорят о 1946, 1947 и 1948 годах) Андрееву предоставляется советское гражданство. Однако в СССР, несмотря на неоднократные поездки в страну и успешные публикации, он никогда окончательно не переехал. Вот что пишет по этому поводу Витковский: "В 1947 году чуть не перебрался в СССР поэт Вадим Андреев, только и переубедило его то, что родной его брат Даниил, его жена и все близкие к ним люди [по делу Даниила проходило больше двадцати человек - М.Г.] были в одночасье арестованы и надолго посажены. Позже, в середине пятидесятых годов, В. Л. Андреев всё-таки приехал в СССР погостить вместе с женой и сыном, - дочь к этому времени вышла замуж и уехала за океан. Сын жить в СССР отказался, жена согласилась последовать за мужем "куда бы он ни поехал", но сказала, что для нее жить в СССР то же самое, как если б ей обе руки отрубили. Пламенный "возвращенец" Вадим Андреев, в кармане которого уже лежал советский паспорт, был растерян, но выход подсказала жена брага Даниила, Алла Александровна: "Уезжай к себе в Женеву, тоскуй по родине, очень затоскуешь, в гости приедешь". Вадим Андреев послушался и уехал, порою благополучно печатался в СССР - как прозаик, но стихи его итоговым сборником вышли лишь в 1976 году в Париже. Несколько иначе описывает "невозвращение" Андреева его дочь, Ольгa Андpеева-Каpлайл: "Только через много лет мы узнали […] о том, что Даниил Андреев с женой были арестованы, и о том, что почти все те несчастные эмигранты, которые успели вернуться в СССР сразу после войны, были репрессированы. Нашу семью спасла открытка от Даниила Андреева, которую я, к сожалению, не нашла среди его писем. Она была получена в 1946 году, и в ней говорилось о том, чтобы мы приехали в Москву "как только Олечка кончит Сорбонну", - хотя я тогда была лицеисткой, которой предстояло учиться еще четыре года до начала учебы в Сорбонне. Мой отец пришел в отчаяние, но мы остались в живых - в Париже...". А сын писателя говорит о роковой случайности, предотвратившей их возвращение еще в 30-х гг.: "Видимо, незадолго до моего рождения это едва не произошло. Но умер Горький, который должен был просить разрешения у Сталина"... Трудные условия эмиграции, жизнь в бараках, голод, тяжелый физический труд, подпольная антифашистская деятельность, арест и приговор к расстрелу, потенциальная (добровольная, но не менее опасная) репатриация - сколько раз судьба поэта могла оборваться, как в случае со столь многими в ту кровавую эпоху, слишком поспешно расставлявшую финальные точки в человеческих биографиях. Оборачиваясь на жизненный путь Андреева, ощущаешь присутствие и силу его счастливой звезды, сопутствовавшей ему, несмотря на невзгоды, практически всю жизнь.
С 1949 года Андреев с семьей живет в США, где работает в Европейском Отделе ООН, а с 1959 переезжает в Швейцарию и трудится в издательском отделе ЮНЕСКО. Он неоднократно посещает СССР в шестидесятые и семидесятые годы. Именно в эти визиты Андрееву, не без риска для себя, удается вывезти из страны множество самиздатских рукописей и документов, в числе которых - полученную в 1967 году от А.Солженицына микропленку с текстом романа "В круге первом" (рукопись же "Архипелага ГУЛАГ" была тайно вывезена год спустя его сыном, А.Андреевым), а так же автографы и тетради своего брата Даниила Андреева, написанные во Владимирской тюрьме.
В Америке и Швейцарии Андреев провел последние десятилетия жизни. Именно на этот период пришелся расцвет его поэтического творчества. Несостоявшееся возвращение на родину спасло ему не только жизнь, но, как утверждает Витковский, "спасло его как поэта: в последние два десятилетия жизни он написал многое из лучших своих стихов". Посмертно были опубликованы два поэтических сборника Андреева: "На рубеже. 1925 - 1976" (Париж, 1977) и двухтомник "Андреев Вадим. Стихотворения и поэмы" (Berkeley Slavic Specialties, 1995). В России поэтическое наследие Андреева до сих пор представлено лишь в считанных скромных журнальных публикациях и подборке в антологии поэзии русского Зарубежья.
Умер Вадим Андреев 20 мая 1976 года в Женеве, а похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.
***
Передо мной - уникальная книга, уникальная в том смысле, что, у нее, собранной и оформленной авторской рукой, вряд ли существуют двойники. На слегка потрепанной временем темно вишневой обложке белым выведено: "Вадим Андреев. Пять чувств". Титульный лист, так же заполненный от руки, указывает место и дату ее создания: Женева, 1970. Отпечатанный на пишущей машинке текст отмечен авторской правкой. А эпиграф, предваряющий основной текст, - стихотворное посвящение жене, Ольге Андреевой-Черновой, умершей в 1964 году (здесь и далее сохраняется авторская пунктуация - М.Г.):
Был вырезан глубокий шрам
На темном серебре коры древесной:
Твоей начальной буквы круг чудесный
Отчетливый наперекор годам.
По рытвинам коры остроконечной
Бежит большеголовый муравей
Не зная в торопливости своей
О том, что круг был создан бесконечным.
Как многое в жизни поэта Вадима Андреева, обнаружение этого единственного в своем числе экземпляра связано со случаем. Вот как описывает его Игорь Михалевич-Каплан, филадельфийский литератор и редактор, нашедший книгу:
"Как-то мне позвонили друзья - художники Белла и Лазарь Портные из пригорода Филадельфии и сообщили, что в букинистическом магазине на развал неведомо откуда поступили русские книги, и, если у меня есть желание подъехать туда, они охотно составят компанию. Так оно и получилось. Правда, у Лазаря была какая-то срочная работа, а Белла поехала со мной.
В полутемном помещении громоздились полки с бесчисленным количеством книг. Добродушный хозяин, с интеллигентной бородкой и милым британским акцентом, пригласил меня в подсобку, предварительно предупредив, что не говорит по-русски. В углу были сброшены тяжелые ящики, которые он предложил мне распаковать и пересмотреть их содержимое.
Белла сначала обменивалась любезностями с хозяином, который попросил ее пристроить "русские сокровища", затем увлеклась каким-то чтивом. Как только я распаковал первый ящик и вытащил какую-то книгу с дарственной надписью, я сразу всё понял, и у меня защемило сердце. Это было ясно: книги принадлежали отошедшему в мир иной, видимо, одинокому русскому человеку. За ненадобностью их вывезли в магазин и оставили на произвол судьбы. Слава Богу, что не выкинули и что на месте "произвола" оказался я. Книги приобрели новую жизнь в новом для них доме. И я дал себе после этого зарок, что позабочусь о своих собственных книгах заранее...
Вообще-то положение в то время у меня было, скажем прямо, не из лучших: я в очередной раз потерял работу, и с деньгами стало туговато. Поэтому, пока я отбирал интересующие меня экземпляры, в голове неотступно беспокоила одна мысль: сколько хозяин за них запросит? Наконец, сотня книг отобрана, и я предстаю "пред очи" продавца. Он окидывает меня изучающим взглядом, видимо гадая о моем материальном положении, и спрашивает: как будем расплачиваться - наличными или в кредит по карточке. Я твердо отвечаю, что по карточке. Дальше - больше. "Мне не известна ценность этих книг, - говорит он. - Сколько ты сам за них дашь?" Я, шутя, отвечаю: "Доллар за экземпляр". "Два", - парирует он и улыбается. Кажется, мы понимаем друг друга. Я расплачиваюсь и тащу к машине сетки с книгами. Мне помогает добрейшая Белла. Я счастлив!
Я знакомился с новыми приобретениями не спеша, пролистывал страницы, попутно заглядывая в справочники и энциклопедии, на чем-то останавливался, рассматривал выходные данные изданий. Передо мной сменяли друг друга города русского рассеяния: Берлин, Париж, Белград, Прага... Постепенно, по дарственным надписям стал понимать, что эти книги принадлежали Ольге Абрамовне Ланг. Позднее, в интернете, в одной из статей нашел примечание:
"Ольга Абрамовна Ланг (псевд. Ольга Фальк; 1897-?) - журналист, специалист по китайской литературе, преподавательница русской литературы. С 1927 г. - за границей (1927-1934 гг. - Германия, 1934 г. - Англия, 1934-1937 гг. - Китай, с 1937 г. - в США), работала в ООН. Автор книг "Образы рабочей Германии" (1932), "Китайская стена" (1940)".
Две книги из ее коллекции связаны с именем писателя и поэта Вадима Леонидовича Андреева, сына Л. Н. Андреева. Первая книга названа "Пять чувств". Я думаю, что "издана" она была в одном, от силы в нескольких экземплярах, составлена из машинописных листов и переплетена. На титульном листе рукой автора - дарственная: "Ольге Абрамовне Ланг от всего сердца. Вадим. Женева, 23 ноября 1970 г.". Вторая книга Андреева "На рубеже" была издана посмертно и преподнесена ее владелице от имени дочери поэта, Ольги Андреевой, сопроводившей этот экземпляр следующими словами: "Дорогому другу - Ольге Ланг с неизменной любовью. Ольга Андреева. Париж, декабрь 1977"".
Об Ольге Ланг, к сожалению, известно очень мало. К вышеприведенной справке остается лишь добавить, что Ланг была лично знакома с А.Ахматовой, встречала Н.Гумилева и О.Мандельштама, бывала на поэтических чтениях, устраиваемых акмеистами в далеком роковом 1917 году. Ее "Воспоминания об Анне Ахматовой" вошли в сборник О.Фигурнова "Анна Ахматова в записях Дувакина". Судя по всему, Андреев познакомился с Ланг в США, точнее, в ООН, где оба в свое время работали.
Книги Андреева из библиотеки Ланг вполне закономерно "текстово" пересекаются. Одна из пяти частей книги "На рубеже" так и названа - "Пять чувств". Дочь поэта, Ольга Андреева, составлявшая его посмертный сборник, отобрала из "Пяти чувств", как представляется, наиболее интересные и удачные стихотворения.
И всё же, перечитывая сборник "Пять чувств", собранный самим поэтом, ощущаешь удивительное единство книги, ее образную и смысловую цельность и законченность, в которой, сдается, таится ключ ко многому в поэтическом наследии Андреева.
Многие стихотворения сборника "перекликаются" с лирикой Е.Боратынского, М.Лермонтова, Ф.Тютчева, О.Мандельштама... Порой, эхо их поэзии настолько отчетливо, что становится очевидным - автор и не пытается закамуфлировать результаты воздействия извне.
Прислушайся, о, сколько новых песен,
О, сколько новых лермонтовских строк
Слетят как пчелы к нам из поднебесья
Когда тому наступит тайный срок!
Однако здесь речь - не о дешевом эпигонстве, а о единомыслии, творческом совпадении общего настроя, внутреннего ритма, поэтического дыхания. Как точно подметил Б.Нарциссов, помимо Тютчева, в стихах Андреева особо ощутимо влияние И.Бунина. В то время, как обоим - и Бунину, и Андрееву - свойственна художественная описательность, в их стихотворениях мало от пресловутой буколики. Медитативная созерцательность, неизменно ведущая к раздумьям о бытии, неразрывность пейзажа с жизнью - вот, что в первую очередь единит двух поэтов. И пейзаж этот отнюдь не бумажный, не бутафорный. Природа в стихах Андреева неизменно очеловечена, одухотворена; она - не метафора к жизни, а сама жизнь. У Андреева описание пейзажа часто ведет к развитию мысли (а, следовательно, и чувства с ней связанного) о любви и дружбе, бытии и творчестве, судьбоносных взлетах и падениях, и даже смерти. Вот, например, отрывок из стихотворения "Яблоня":
Стареет дерево, как всякий человек,
И времени следы неизлечимы -
Уже топор свой точит дровосек,
Уже приходит срок неотвратимый,
И в этот миг и яблоня, и я,
В надежде полного изнеможенья,
Со всею болью старого огня
Мы бросим в мир последнее цветенье.
Книга состоит из двух частей: "I. Черенок. 1951-1966" и " Дух дерева и дух воды. 1966-1970". Оба названия связаны с природой, точнее с образом дерева, одним из центральных в поэзии Андреева тех лет, ведь, как утверждает поэт:
Дух насекомого земного,
Дух дерева и дух воды
Понятней сердцу, чем основа
Пространства и чем дух звезды.
Под "понятностью" здесь подразумевается близость человеческого мира с природным, их естественная взаимопроникающая связь. В общении человека с природой задействованы все пять чувств: мы можем прикоснуться к морщинистой коре дерева, вдохнуть запах набухающих почек, засмотреться на качающиеся на ветру ветви, услышать легкое шуршание листвы и даже ощутить ее горьковатый привкус... Об этих "прописных истинах" - лирическое стихотворение Андреева, названное "Пять чувств", в котором поэт говорит о простейшем из наслаждений (и, в то же время, почти обесцененном в жизни суетливого и одержимого ложными ценностями современника) - о наслаждении природой. И автор совсем не огорчен тем, что не проник (да и не стремился) в некую запредельность и "надмирность", в так называемое "шестое чувство":
Не проник. Мне довольно того, что дала мне природа,
Чем богато дыхание всех благородных искусств,
Только б мне удалось сохранить полноценной свободу
И высокую мудрость пяти человеческих чувств.
Дерево, в одухотворенность которого верили еще язычники, гораздо ближе человеку, чем холодные звезды бескрайнего, неощутимого и обезличенного космоса. Еще с библейских времен, когда Бог посадил посреди рая "древо жизни", дерево стало олицетворением самой жизни, ее благодатного, глубокого, непреходящего Божественного дыхания. Именно такой смысл вкладывает Андреев в образ дерева. У Андреева и бытие, и творчество подобны то лесу, то дереву, то кусту, то хрупкому, но жизнелюбивому побегу, прорастающему сквозь "железные венки" и мертвые "плиты":
Быть может он средь сорняков и плевел
Один единственный меня переживет,
Наперекор беззвучию библейским древом,
Плодонося слова сквозь камни прорастет.
Кажется, что если бы поэт верил в перевоплощение, то он непременно пожелал бы в новой жизни быть ничем иным как деревом: "К чему они - райские кущи? / Божественный зевсов нектар? / Струею дождя, к корневищу бегущей / Растенье уймет пополуденный жар".
Пожалуй, только тема покинутой России и тоски по ней сохраняет свою обособленность. Для нее у поэта - совсем иные слова и образы, более резок его речевой жест, более надрывна его интонация. Стихи Андреева о России, как и в далеких тридцатых, всё так же озвучены пронзительной ностальгической нотой. В этих стихах ощутим душевный надлом и подлинная человеческая мука; в них превалирует чувство невосполнимой потери и даже угрызений совести - так ноет никогда не затянувшаяся рана... И лишь творчество, "примирительный елей", как некогда назвал поэзию Тютчев, становится в некоторой степени отдушиной для поэта.
И, напоследок, хочется снова обратиться к статье Блока "Душа писателя": "Писатель - растение многолетнее. Как у ириса или лилии росту стеблей и листьев сопутствует периодическое развитие корневых клубней, - так душа писателя расширяется и развивается периодами, а творения его - только внешние результаты подземного роста души. Потому путь развития может представляться прямым только в перспективе...".
Думается, эти слова в полной мере применимы к Вадиму Андрееву и к его, спустя годы случайно нашедшей нас книге, столь ярко отразившей "подземный рост души" поэта - "Пять чувств".
Биографическая справка: Вадим Леонидович Андреев (25 декабря 1902 (7 января 1903), Москва - 20 мая 1976, Женева) - русский поэт, прозаик. Сын Л. Н. Андреева, брат Д. Л. Андреева. Автор сборников стихов: "Свинцовый час" (1924), "Недуг бытия" (1928), "Второе дыхание" (1950), поэмы "Восстание звезд" (1932), а также автобиографических повестей "Детство" (1963), "История одного путешествия" (1966), "Возвращение в жизнь" (1969), "Через двадцать лет" (1974), романа "Дикое поле" (1965) и др.
ВАДИМ АНДРЕЕВ. МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТИХИ.
Публикация Марины Гарбер
* * *
Чуть срезан накось яблоновый черенок.
Казалось бы и жизни нет в обрубке.
Будь меньше он - его бы муравей сволок,
Чтоб снизу подпереть свой город хрупкий.
А черенок меж тем тихонько под землей
Уже пускает розовые корни,
Питается азотом, любит перегной,
Стараясь утвердиться попросторней,
Он пьет... Нет, я пишу не руководство для...
И без меня полно ученых садоводов,
А потому, что мне моя жена - земля
Дана для счастья матерью-природой,
И потому еще, что в сорок девять лет
Далекий путь становится коротким.
И точно через лупу на любой предмет
Смотрю - и близок мир, простой и четкий... 1952
* * *
Ветер шагал по вершинам деревьев,
Но постоянно сбивался с ноги.
Он ускорял перед каждой деревней,
Как человек перед домом, шаги.
По полю прыгали злые шутихи -
Скрюченных вихрей живые тела.
Ветви сгибая, как пьяная, лихо
На перекрестке плясала ветла.
Засуха шла на деревню, на приступ
Выжженных и обескровленных нив.
Засуха жгла и по небу со свистом
Дальних пожаров метались огни.
Голод вползал в беззащитные избы,
В клети, в подвалы и на чердаки,
И, как собака, тихонько повизгивал
И пожелтевшие скалил клыки.
***
Вздыхает тревожно ночная земля,
Ложится на платье роса голубая,
И к небу, как стрелы, летят тополя,
В полумгле серебристые листья роняя,
И ухает глухо большая сова,
Друг с другом кузнечики спорят и спорят,
В нескошенном поле цветы и трава -
Безголосые - всё же им радостно вторят.
Роса и кузнечики, ночь и поля,
Покорны присущему жизни томленью,
А ты, не расслышав как дышит земля,
Ты проходишь сквозь мир безучастною тенью.
***
На опушку, где ясень и вязы,
Где кусты ежевики и мгла,
Летним вечером накрепко связанных,
Память нас вновь привела.
Там, на небе, чуть видные звёзды
И невидимые небеса.
Сенокос, и качается в воздухе
Запахов душных река.
Но с годами всё глуше и строже,
Всё скупее становится речь.
Нам немыслимо и невозможно нам
Высказать - и сберечь:
Ведь за каждым оброненным словом
Нерождённые стонут слова,
Отливая свинцом и оловом
Точно скошенная трава.
Мы в тени прошлогоднего стога
Не помедлим сегодня с тобой.
Над ночною, над тёмной дорогою
Пахнет скошенною травой.
***
Розоватый рыжик спрятан в хвою.
У него под шляпкой младший брат.
Воздух леса на смоле настоен -
Он хмельнее хмеля во сто крат.
Тишину лесную видно глазом,
Слышно ухом - в золоте листва,
Слышно как мгновенные алмазы
Зажигает в росах синева,
И таким дыханьем необъятным
Насыщается моя душа,
Что спеша уходит на попятный,
Смерть от жизни, на попятный шаг.
***
Я в землю вернусь
- и стану землёю,
Всем, что дышит, звенит и живет,
Стану деревом, зверем, травою,
Стану небом и даже луною,
Той луной, что над нами плывёт.
Обернись и взгляни - неужели,
Как бы жизнь ни была хороша,
Ты поверить могла, в самом деле,
Что лишь в нашем стареющем теле,
Только в нём и ночует душа?
Я бессмертен и я бесконечен!
Стану степью - и встречусь с тобой,
Стану морем - и смуглые плечи,
Как и в прежние годы при встрече,
Обниму набежавшей волной.
Стану ветром - таким же счастливым
Как и тот, что над нами теперь
То замолкнет, то вновь торопливо
Говорит с длиннолиствою ивой...
- Я стану таким же.
Не веришь? Проверь!
ЛЕС В ИЮНЕ
В глазах зарябило от тени и света,
Идёшь как слепой - от пятна до пятна,
Уже опрокинулась в знойное лето
В струящийся воздух - весна.
В лесу лишь зелёное да голубое:
И корни, и даже валежник - и тот,
Покрывшись прозрачной, шершавой травою,
Того и гляди зацветёт.
С весёлым гуденьем, вся в звонком сиянье
Мелькающих крыл, пролетела оса,
И снова лесное сухое дыханье,
И щебет - на все голоса.
Как дождь ослепительный падает пламя,
Сжигая за новой саженью сажень.
Прибита к земле золотыми гвоздями
Листвы тёмно-синяя тень.
Куда ни посмотришь, глаза приневолив,
Везде, от земли и до самых небес,
Упёршись своей грудью в далёкое поле,
Трепещет сияющий лес.
НА ПУШКИНСКОЙ ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ
Тянуло с Ладоги рассветом.
Крепчал мороз. Из темноты
Вступавшим в новый день предметам
Опять дарила жизнь черты:
Стал домом - дом, санями - сани,
И в речке вмёрзшее бревно
Своей обрубленною дланью
Подпёрло мост.
Ах, всё равно
Нам не исправить нашей жизнью
Того мгновения, когда
На повороте полос взвизгнет
И выйдет из саней вражда,
Беда, тверда, непоправима,
Поднимет пистолет...
Прости
Что я в тот день невозвратимый
Тебя не смог спасти.
***
Океанским берегам свойственны
полусуточные приливы.
Географический учебник
Поспешно дышит человек
Взбежав на лестницу, догнав автобус,
Иль опоздав и сдерживая злобу -
Свой он растрачивает век.
На мелочь разменяв рубли
Первоначально полноценной жизни,
Он измеряет вечность дешевизной
Им сходно купленной земли.
Смотри, как дышит великан:
Ему чужда дневная суматоха -
За сутки только два огромных вздоха
И полон жизни океан.
КУСТ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА
Когда он возникает в глубине
Суровой чащи, меж сплетенья веток,
Приходит в голову невольно мне,
Что этот куст - мой друг и дальний предок.
Вот он стоит - лазурный часовой -
В своей одежде неколючих игол,
Высокий, стройный, дымно-голубой,
Как сгусток времени, как символ мига,
Того мгновения, которым я
Быть может был - давным-давно когда-то.
О, как была тогда душа моя
Щедра, отзывчива, богата!
Он вспыхнул в блеске капель дождевых,
Один в лесу он солнцем был опознан,
И вот горят на веточках тугих
Смолистые, смарагдовые звезды.
Как трудно мне в земных стихах моих
Поймать и воссоздать воспоминанье,
Чтоб прозвучал - как этот куст - мой стих
В людском лесу лазурным восклицаньем!
НОЧНОЙ ЛЕС
Всей грудью ночь на лес легла.
ЕЁ дыханье стало внятным.
Как будто чёрной ватой мгла
Отдельные прикрыла пятна.
И там, где угасал костёр,
Борясь с таинственной дремотой,
Прохладную ладонь простёр
Невидимый и властный кто-то.
Но вдруг случайный ветерок,
И вспыхнул розовый и зоркий
Сквозь тонкий пепел уголёк,
Заговорил скороговоркой
О том, что холодно ему,
Что он бессилен, что не может
Преодолеть ночную тьму,
Что жизнь моя его тревожит,
Что я… Он вспыхнул и исчез.
И медленно сквозь мглу ночную,
Шурша листвой незримый лес
Ко мне приблизился вплотную.
ЯБЛОНЯ
Дичок я выкопал в лесу. С трудом
Раздвинув камни, я непрочный корень
Извлёк с налипшею землёй. Потом
Я посадил дичок в саду, на взгорье,
Подальше от других: как человек,
И яблоня должна дышать свободно,
И будет у неё счастливый век -
Большой, высокий, многоплодный.
Потом кору ножом я полоснул,
И ртом приник к кровоточащей ране,
И душу дереву мою вдохнул,
И стала яблоня моим созданьем,
И много лет, из года в год, она
В моём саду цвела, плодоносила,
Прозрачной кровью до краёв полна
И одержима творческою силой.
Стареет дерево, как всякий человек,
И времени следы неизлечимы -
Уже топор свой точит дровосек,
Уже приходит срок неотвратимый,
И в этот миг и яблоня, и я
В надежде полного изнеможенья,
Со своею болью старого огня
Мы бросим в мир последнее цветенье.
Из чёрных почек вылетят цветы,
На длинных ветках сядут словно птицы,
И, не боясь ни холода, ни тьмы
Душа цветов сияя загорится.
ПРОВАНСАЛЬСКИЙ ГОРОДОК
Как будто светом выметена площадь
И улицы пустого городка.
Чуть слышно воду плоскую полощет
Фонтана серебристая рука.
Нет никого, но может быть недавно
Одетый солнцем человек прошёл
Или пройдёт... Вдали стоит безглавый
Засохшего платана мёртвый ствол.
Ни тени, ни пятна. Над тротуаром
Струится марева белесый пар.
Приподнят над землёй горячим паром
По небу катится дневной пожар.
Как мумия под золотою маской
Лежит облитый солнцем горб холма.
Вот в день такой, когда сгорают краски
Ван Гог сошёл с ума.
***
С тех пор, как вырубили лес,
И лишь по склонам гор растут дубы и кедры,
Вода ушла во тьму, в ночные недра
Прочь от обугленных небес.
От сухости стал хрупким воздух,
Горчит насыщенная зноем тишина,
И по ночам бездомная луна
Стирает с неба злые звёзды.
Идти зверью на водопой -
Куда? Давно иссяк последний омут,
Лишь только сухокрылым насекомым
Доступен этот жёлтый зной,
Да паукам - они в колодцах,
Пустых, свой серый занавес упрямо ткут,
И сквозь него течёт горячий жгут
Лучей расплавленного солнца.
На край надвинулась беда
С тех дней, как срублены деревья-старожилы,
И больше не течёт в незримых жилах
Святая кровь земли - вода.
***
Дух насекомого земного,
Дух дерева и дух воды
Понятней сердцу, чем основа
Пространства и чем дух звезды.
Цикады маленькое тело
С родной природой заодно,
Века своё свершает дело,
В звук превращается оно.
Из предыстории, оттуда,
Где жизнь впервые зацвела,
Нас оглушающее чудо
Цикада в лапках принесла.
И вот, дрожа от напряженья,
Пронзая звоном жёлтый зной,
Она в порыве вдохновенья
Как будто жертвует собой -
И воздух ветром, солнцем, песней
Летит вдоль дремлющих полей,
И мир становится телесней,
И вдохновенней, и нежней.
***
Влага стихов - воркованье струящихся гласных
Камни согласных оденет звенящей росой,
И первобытное слово становится ясным,
И синее небо сливается с чёрной землёй.
Сеятель ссыпал в кошёлку шуршащие зерна.
Даль, а в дали прислонились к земле облака.
Как дышит земля, как дыханье её благотворно,
Как от звуков и слов тяжелеет сегодня рука!
Поле распахано, в борозду падает семя,
И, если случатся дожди, и оно прорастёт,
Высоко меж плевел поднимется колос и бремя,
Как ветошь, на землю с натруженных плеч упадёт.
***
В конце беспокойной дороги
Мы часто подводим итог
Минутам высокой тревоги
И сереньким дням без тревог.
Колонками цифры построив
То справа, то слева, спешим
В уме подсчитать золотое
И черное нашей души.
И, вычтя одно из другого,
Из радости темную боль,
В полголоса мертвое слово
Шепнем прозаически: "ноль…"
Но вдруг по квадрату страницы
Все цифры скользнут и, ожив,
Танцуя, взлетят вереницей
Вне логики правды и лжи,
И, музыке странной покорна,
Как воздухом ею дыша,
В родные, земные просторы
Живая вернется душа.
ПЯТЬ ЧУВСТВ
Ненасытны глаза - мне, пожалуй,
и жизни не хватит
Наглядеться вот так, чтоб вполне,
до конца, разглядеть,
Как вдали облака превращаются в птиц
на закате,
И как пролитый по небу мёд
переплавился в медь.
Никогда не устанет мой слух отзываться
на голос
Недоступной, но всё же мне близкой
природы, когда
К замерцавшей звезде паутины
таинственный волос,
Как струну, запевая, протянет
другая звезда.
Никогда, никогда мне не хватит
скупого дыханья,
Чтоб до сердца проник
аромат зацветающих лип,
И вполне насладились бы пальцы -
моё осязанье -
Ощущеньем горячей, шершавой и милой земли.
И когда я приникну к траве и
прохладные росы
Обожгут мне и нёбо, и мой
пересохший язык, -
Мне покажутся вовсе нелепыми
злые вопросы,
утвержденья, что чувство шестое я -
нет, не проник.
Не проник. Мне довольно того,
что дала мне природа,
Чем богато дыхание всех благородных
искусств,
Только б мне удалось сохранить
полноценной свободу
И высокую мудрость
пяти человеческих чувств.
***
Воздух сегодня и звонок, и хрупок.
С дерева к дереву струны мороз протянул,
И, дирижером на горном уступе,
Солнцем и снегом одев, он поставил сосну.
Лес в неподвижном застыл ожиданье,
Ветви взметнулись - одетые снегом смычки -
Вспыхнет-не вспыхнет мгновенным сияньем
Луч или звук от движенья незримой руки?
О, как прекрасны земные дороги,
Суетны мысли, дела и желанья людей:
Видишь, с какою блаженной тревогой
Кустик застыл над невидимой скрипкой своей.
На фото: Вадим Леонидович Андреев.
Слушайте
ФОРС-МАЖОР
ДЕТЕКТИВ
Отношения с мужем натянулись еще сильнее. Ричард, правда, стал вежливым, но Лиза понимала, когда адвокат вежлив, значит что-то варится.
декабрь 2025
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
"Россия такая страна, которая ничего не боится. Простить террористов — это дело бога, моё дело — отправить их к нему. Россия не сердиться, Россия сосредотачивается. Вышли, не имея права, — получите по башке дубиной."
декабрь 2025
ИСТОРИЯ
У Эдди было слабое место-сын, которого он обожал. Эдди скрывал свою связь с мафией. Он хотел чтобы сын был лучше, чем он сам. Эдди мечтал оставить сыну своё доброе имя и личный положительный пример. В какой-то момент Славный Эдди решил искупить все содеянное и рассказать властям об Аль Капоне.
декабрь 2025
ПРОЗА
Дед закончил войну под Берлином и вернулся домой с тремя ранениями, двумя контузиями, орденами Красного Знамени и Славы, кучей медалей и вот этим пистолетом. …Сергей взял пистолет в руку и ощутил его приятную и убийственную тяжесть: снял с предохранителя, передёрнул затвор и, отведя руку в сторону и вниз, нажал на спусковой крючок….
декабрь 2025










