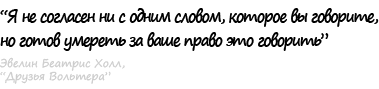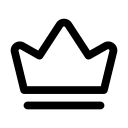СОВРЕМЕННОСТЬ АТАКУЕТ ПРОШЛОЕ
Размышления о способах интерпретации классики
Опубликовано 20 Января 2008 в 17:00 EST
This season (2006-2007), two Bostonian theaters present contemporary interpretation of classical dramaturgy on their stages; Huntington Theater’s production of Chekhov’s “The Cherry Orchard” and American Repertory Theater’s production of J. Racine’s “Britannicus”.
 Поводом для этих заметок послужили две бостонские премьеры театрального сезона: «Вишневый сад» А. Чехова в театре Хантингтон и «Британник» Ж. Расина в Американском Репертуарном театре. В XX веке наряду с автором пьесы, творцом спектакля становится режиссёр. Он обретает право переносить место и время действия, открывать и вносить новые смыслы, использовать исторический опыт, отказываться от хрестоматийности, включать проекции в сегодняшнее время и тем самым огорошивать зрителей.
Поводом для этих заметок послужили две бостонские премьеры театрального сезона: «Вишневый сад» А. Чехова в театре Хантингтон и «Британник» Ж. Расина в Американском Репертуарном театре. В XX веке наряду с автором пьесы, творцом спектакля становится режиссёр. Он обретает право переносить место и время действия, открывать и вносить новые смыслы, использовать исторический опыт, отказываться от хрестоматийности, включать проекции в сегодняшнее время и тем самым огорошивать зрителей.
Между тем, этим правом зачастую пользуются, усвоив чисто внешние приемы, и не обладая даром глубинного проникновения в природу данной классической пьесы. И тогда публика (которая всегда права!), чувствует, что что-то не так. Но почему? Где нарушилось чувство пропорции? От чего знакомые образы не показались такими дорогими сердцу, как прежде, и почему персонажи незнакомой классической пьесы выглядят, как будто они зашли на сцену по дороге из супермаркета?
Консерваторы скажут: нельзя видоизменять классику. И не будут помнить о великих достижениях реформатора сцены Всеволода Мейерхольда, заимствованных всем европейским театральным миром. Новаторы будут поддерживать любое осовременивание. Но ведь всё дело не во внешнем сходстве эпох, а в мало изменяемой природе человека. Следовательно, мера отклонения сценической версии от авторского текста и ремарок определяется лишь чуткостью и талантом постановщика. Вот это и есть те ключи, с помощью которых он пытается войти в бесконечно богатый мир классики. Полагаю, общих критериев тут быть не может. Побеждает лишь талант — «единственная новость, которая всегда нова».
В Америке любят Чехова. Однако достичь вершины по имени Чехов мало кому дано. Для этого, по крайней мере, необходимо вникать в подводное течение пьесы, в её поэтику, в её подтекст.
 Наиболее популярную пьесу «Вишневый сад» в нынешнем сезоне представил драматический театр Хантингтон. Пожалуй, лучшее, что в нём привлекает, это оформление. Художник Ралф Фуниселло тщательно выписал игровые занавесы к каждому акту, являя взору поочерёдно цветущий вишнёвый сад, оголённый вишнёвый сад, и, наконец, заснеженный вишнёвый сад. Тем самым театр создавал поэтическую атмосферу жизни в дворянской усадьбе со сменой времён года…
Наиболее популярную пьесу «Вишневый сад» в нынешнем сезоне представил драматический театр Хантингтон. Пожалуй, лучшее, что в нём привлекает, это оформление. Художник Ралф Фуниселло тщательно выписал игровые занавесы к каждому акту, являя взору поочерёдно цветущий вишнёвый сад, оголённый вишнёвый сад, и, наконец, заснеженный вишнёвый сад. Тем самым театр создавал поэтическую атмосферу жизни в дворянской усадьбе со сменой времён года…
На роль Раневской оказалась приглашена знаменитая и действительно обаятельная Кейт Бартон.
Режиссёр-постановщик Николас Мартин оставил персонажей в том самом 1904-ом году, когда была осуществлена первая постановка в Московском Художественном театре, чем явно стремился выказать уважение великому автору. Но, сохраняя стиль отношений и общения героев в духе эпохи, он вглубь чувств и взаимосвязей не проник. Поэтому и решил пьесу в исключительно комедийном ключе.
И тут следует сказать о трудно постижимой иностранцами загадке, оставляемой русскими классиками при определении жанра. Начиная от Ивана Сергеевича Тургенева, написавшего пьесу «Нахлебник» об участи обездоленного человека, и назвавшего пьесу комедией, в XIX веке образовалась традиция передавать драматическое содержание через призму лёгкой шутки. Точнее, усмешки от боли. При всём сочувствии автора к персонажам, они не канонизированы, и представлены с недостатками или даже нелепостями. Это беспощадное умение видеть правду формировало русский психологический реализм.
«Вишневый сад» — это драма людей, принадлежащих к аристократическому классу, оказавшихся на сломе эпохи, и не готовых к приспособлениям ради выживания. (А вам, господа, конечно, вспомнились уроки литературы в советской школе, где настойчиво втолковывалось о паразитизме дворянского класса). Когда Лопахин говорит Раневской о том, что сад надо поделить на участки и сдавать под дачи, она отвечает, что это пошло. Вот и противоречие, на котором вырос главный мотив пьесы. Мотив гибели. И это в то время, как пьеса названа автором комедией. И чтобы разобраться со всеми сплетениями судеб и истории, сожалениями и обвинениями, необходима кропотливость душевной работы постановщика.
Николас Мартинас, по-видимому, поверил определению жанра, данного Чеховым: комедия, и не догадался о том, сколько страдания несут в себе её герои. И всё предстало в несколько упрощённом виде. Лопахин (Вилл ЛеБоу) — деловой человек, дающий разумные советы, но не ведающий ни вины, ни тоски, ни порывов… Он даже и на нелюбимой Варе почти готов жениться, и если бы она была смелее, так бы тому и быть. А для Вари (Сара Худнат), ждущей предложения Лопахина, жизнь не обрывается от его нерешительности. Нет — так нет. И она уходит без ощущения потери. Потеря образовывается у зрителя, которому не пришлось с напряжением ждать вместе с нею заветных слов Лопахина… Не было драматизма и в сцене, когда Лопахин объявляет Раневской о продаже вишнёвого сада. Не возникло и состояния, определяемого Мейерхольдом как внезапного и необратимого: «Входит Ужас».
Этот Лопахин — потомок крепостных и новый хозяин не пережил смешанных чувств вины и торжества. А у Раневской (К. Бартон) не было отчаяния. Для этой изящной, очаровательной дамы произошло лишь слегка огорчительное событие. А раз так — что же, она поедет в Париж, ведь всё равно после последней телеграммы засобиралась…
И они с Гаевым (Марк Блум) не станут плакать о прошлом, обнявшись, а дружески побеседуют и расстанутся. И могила малолетнего сыночка предстанет как могильный склеп, а не полоска земли, при виде которой кровоточит сердце.
Нелепая трагическая и неприкаянная Шарлотта в исполнении Джойс Ван Паттен предстанет солидной пышнотелой особой, скорее онемеченной по-бюргерски, чем англизированной богемно.
Аня и Петя вообще останутся на периферии спектакля. Зато постоянным дополнением к событиям станут преувеличенно нелепые падения Епиходова. Человек по прозвищу «Двадцать два несчастья» превращается в ковёрного. С его падений на бегу спектакль начинался, ими и заканчивался. Впрочем, в самом финале Епиходова, наконец, не было. Там, как и положено, пребывал один забытый в заколоченном доме Фирс (Дик Латесса). И это со всей очевидностью был единственный болевой момент в спектакле.
В этой постановке не производились насильственные внедрения смыслов, связанные с новыми концепциями постановщика. Но автора просто не ощутили. Не вошли в его мир. И скользнули по поверхности, не заставив испытать чувства тех персонажей, кого автор, видя со всеми недостатками, любил…
Другой способ обращения к классике — привнесение всяческого снижения, удары наотмашь, выворачивание текста наизнанку, откровенный физиологизм. Возникает впечатление, будто театр не рассчитывает, что зритель, приученный к дайджестам, способен следить за неспешными движениями мысли и чувства. И для того, чтобы привлечь и удержать публику, в ход идёт шоковая терапия. Возможно, мир действительно так меняется, и не во власти театра эти перемены не допустить. Но тогда действовать приходится, применяя не театрально условные, а кинематографические приёмы. Между тем, откровенные сцены, увиденные кинокамерой, оставляют ощущение дистанционности, в то время как в театре — искусстве более условном — они просто вызывают ощущение неловкости.
Режиссёр Роберт Вудрафф на сцене Американского Репертуарного Театра в январе нынешнего 2007 года предъявляет свою последнюю премьеру: пьесу французского драматурга Жана Расина (1639-1699) «Британник». Сюжет относится к периоду упадка Римской империи. По закононаследию царствовать должен был Британник. Но мать Нерона Агриппина удалила Британника — сына своего последнего царствующего мужа Клаудиса в сторону, расчистив дорогу к трону для собственного сына. И далее Британник становится жертвой Нерона.
Если вы полагаете, дорогие читатели, что на сцену явились персонажи в тогах, стилизованные в духе эпохи классицизма, то вы заблуждаетесь.
При очевидной эклектике, фигуры мрачной истории были одеты по-современному. Проще говоря, были недоодеты. Или абсолютно голые.
Итак, действие начиналось долго длящейся мизансценой ещё до начала спектакля. В глубине сцены по центру сидела парочка. Он вожделел к ней и гладил её открытые колени. Слева за перегородкой была обозначена современная больничная палата. На кровати лежал старец, очевидно это был упомянутый в списке действующих лиц автором и не обозначенный в программе Паллас (приближённый Агриппины). Не произнеся ни слова, ближе к финалу он застрелится. Время от времени к нему заходила вульгарная дамочка с короткой стрижкой, ярко блондиновой окраской, броскими браслетами и составляла партию в шахматы. Это и была Агриппина (Джоан Макинтош). Справа появлялся молодой человек — брюнет в безукоризненном современном костюме. Не обращая ни на кого внимания, он поворачивался к публике спиной, раздевался догола, откручивал ни к чему не прислонённый кран и долго принимал душ. По неожиданному сигналу гонга спектакль начинался с изображения полового акта, которому предавалась центровая парочка. Её ноги на высоких каблуках стремительно взмывали вверх, он наваливался на нее, и пароксизм их содроганий продолжался до тех пор, пока кто-то быстро не выносил атлетически сложенную девушку в бикини и с повязкой на глазах, чтобы водрузить её на стул спиной к залу.
Требовалось время осознать, что принимающий душ — никто иной, как Нерон в молодости, распутная парочка в центре — это наперсница Агриппины Албина и Нарцисс — злонамеренный учитель Британника, а девушка, которую оставили в позе скорченной Немезиды, — возлюбленная Британника — Джуниа.
Оправившись от первых шоков, слушаем как худая и морщинистая Агриппина низким и хриплым голосом ведёт речь, обращённую к солидному господину, одетому в современный цивильный костюм. Он оказывается наставником Нерона…
Но вот, что представляется важным для справедливости сказать.
При всей нарочитости эскападов между персонажами завязываются не декларативные, а воистину напряжённые отношения. Нерон (Алфредо Нарцисо) умён, красив и жесток как человек мафии. В пьесе он ещё не совершил убийств матери, жены, учителей, но зёрна будущих преступлений уже зреют в его тёмной душе. И труп Британника, уничтоженного Нероном, чтобы завладеть Джунией, первое доказательство преступных наклонностей правителя. Джуниа (Меррит Джансон) с её неподдельной дрожью, страхом перед Нероном и любовью к Британнику — внесла в спектакль то, чего так не хватает в современных спектаклях: живое осязаемое чувство. Молодая актриса волнующе провела сложнейшую сцену, в которой эта героиня, зная, что её объяснение с Британником подслушивает Нерон, пытается спасти возлюбленного, отказываясь от него и трепеща. И в самом деле, на что могла надеяться эта девочка, простодушно напялившая на себя нелепую спортивную футболку и шорты вместо подобающих величественных одежд, в мире кровопролитий и совокуплений?
И зачем режиссёру понадобилось одеть персонажей в одежду нашего времени? Ради подтверждения тезиса о том, что меняются только эпохи и костюмы, а неизменна лишь агрессивная природа человека? Это и так очевидно.
И мне, отшатнувшейся от бесконечных патологических сцен, включающих соитие Агриппины с сыном, которое Расин в своём предисловии к этой пьесе отвергал, всё же приходится признать, что в спектакле присутствовала режиссёрская концепция, соизмеряющая дикие нравы эпохи Нерона с полной выхолощенностью и изуверством современного более цивилизованного мира. И достигал режиссёр этого ощущения не благодаря переносу времени действия в некие абстрактные наши дни, а прослеживанием внутренних побуждений персонажей, раскрытием их варварской сущности.
И это как раз и было сделано мастерски.
Если население планеты спокойно смотрит телевизионную хронику убийств и казней, после чего идёт и ужинает, не теряя аппетита, приходится констатировать, что театры, в конечном счёте, фиксируют состояние растущей человеческой чёрствости. И, может быть, безудержная и разнузданная гиперфантазия режиссёра «Британника» имеет под собой почву?..
Впрочем, Роберту Вудраффу, переступившему с лёгкостью законы классицизма, по которым убийства нельзя показывать на сцене, о них можно только рассказывать, гармония, в конечном счете, тоже оказалась необходима. Иначе, зачем бы ему выпускать на сцену с дивными вокальными мелодиями ещё один персонаж, не присутствующий в пьесе, но имевший место в истории: Октавию (Миган Росс) — жену Нерона?
Итак, мы прошли вслед за постановщиками классических пьес два пути. Один вёл к достоверности, которая не была насыщенна дыханием чувств. Другой сбивал с толку, петлял, пугал, ошеломлял, искривлялся. И в конце открывал ужасные истины, осознание которых эмоционально оказывалось сильным.
Можно и по-другому. Но было так. Театр XXI века вглядывается в прошлое и находит в нём отзвук. Из этого отзвука он извлекает мощные обертоны и обрушивает их в сегодня. И тут формируется непрерывная связь: прошлое — в настоящем, настоящее — в прошлом. Но современность всё активнее атакует прошлое.
Как и в прежние времена, театр, являясь отражением жизни, богаче и непредсказуемее её.
Слушайте
ФОРС-МАЖОР
ДЕТЕКТИВ
Отношения с мужем натянулись еще сильнее. Ричард, правда, стал вежливым, но Лиза понимала, когда адвокат вежлив, значит что-то варится.
декабрь 2025
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
"Россия такая страна, которая ничего не боится. Простить террористов — это дело бога, моё дело — отправить их к нему. Россия не сердиться, Россия сосредотачивается. Вышли, не имея права, — получите по башке дубиной."
декабрь 2025
ИСТОРИЯ
У Эдди было слабое место-сын, которого он обожал. Эдди скрывал свою связь с мафией. Он хотел чтобы сын был лучше, чем он сам. Эдди мечтал оставить сыну своё доброе имя и личный положительный пример. В какой-то момент Славный Эдди решил искупить все содеянное и рассказать властям об Аль Капоне.
декабрь 2025
ПРОЗА
Дед закончил войну под Берлином и вернулся домой с тремя ранениями, двумя контузиями, орденами Красного Знамени и Славы, кучей медалей и вот этим пистолетом. …Сергей взял пистолет в руку и ощутил его приятную и убийственную тяжесть: снял с предохранителя, передёрнул затвор и, отведя руку в сторону и вниз, нажал на спусковой крючок….
декабрь 2025