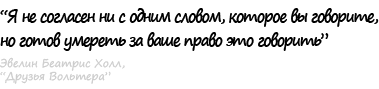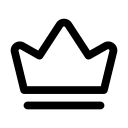НЕ ЗАБЫТЬ
Чёрное любопытство
Опубликовано 20 Мая 2011 в 08:39 EDT
О НОВОМ АВТОРЕ "КРУГОЗОРА"
 Теодор Адамович Шумовский родился в 1913 году в г. Житомире, в польской семье. Известный востоковед. Арабист. Ближайший ученик основателя советской школы востоковедения академика Игнатия Юлиановича Крачковского.
Теодор Адамович Шумовский родился в 1913 году в г. Житомире, в польской семье. Известный востоковед. Арабист. Ближайший ученик основателя советской школы востоковедения академика Игнатия Юлиановича Крачковского.
Уже в студенческие годы заявил о себе рядом опубликованных научных работ. Однако в 1938 г. вместе с двумя товарищами по Ленинградскому университету Л.Н. Гумилевым и Н. П. Ереховичем, Т.А. Шумовский арестован по обвинению "в участии в молодежной антисоветской организации ЛГУ и в подготовке террористического акта против А.А. Жданова". "Взяли весь цвет молодого поколения…будущих звезд русской науки", - говорила А. Ахматова, у которой были арестованы и сын и муж.
После освобождения в 1946 году, в связи с запретом жить в центрах областей и столицах, местом жительства Т. Шумовский избрал г. Боровичи Новгородской области, где работал методистом РОНО по иностранным языкам и находился под негласным надзором. Здесь в 1949 году был арестован вторично. Но и в заключении наука помогла ученому спасти жизнь. Встречи с людьми разных национальностей в тюрьмах, лагерях и на этапах обострили внимание ко многим языкам - грузинскому, армянскому, испанскому, финскому, китайскому и др., что отразилось впоследствии на научных интересах Теодора Шумовского. Между двумя арестами он защитил диссертацию на ученую степень кандидата филологических наук, а в 1968 году стал доктором исторических наук. Кроме чисто специальных книг, автор придает большое значение популярному изложению научного знания. Основные книги этого плана - "Арабы и море"(1964, 2010), "У моря арабистики"(1975), "Воспоминания арабиста" (1977), "По следам Синдбада-морехода. Океанская Аравия"(1986), "Последний "лев арабских морей"(1999). Другая сторона деятельности Теодора Шумовского - поэзия. В 1998 г. издан сборник его стихов "Озарение". Не случайно им впервые осуществлен поэтический перевод с арабского на русский священной книги мусульман "Коран", известный сегодня в шести изданиях.
Предмет особого интереса ученого в последние годы - происхождение русского языка, возникшего на стыке восточных и западноевропейских языков. Эта точка зрения обоснована им в книге "Странствия слов" (2004).
Размышления над прожитой жизнью в науке опубликованы в книге "Свет с Востока"( 2006, 2010). "Это книга неспешная, негромкая, но она потрясает" - писала газета "Санкт-Петербургские ведомости". Вниманию читателя предлагается отрывок из новой, готовящейся к печати книги Т.А. Шумовского "Беседы с памятью". Особую ценность его книгам придает то, что автор пишет не только о себе и трагедии второго ареста 1949 года. Его интересуют и окружающие люди - "следователи", товарищи по несчастью, охранники, соседи по камере - врач, священник, с которыми судьба свела ученого-заключенного в драматических обстоятельствах жизни.
Будылин-Шумовский Иосиф Теодорович (Россия, Псковщина, Пушкинские Горы)
ЧЁРНОЕ ЛЮБОПЫТСТВО
Воспойте громче, петухи
Идет охота на стихи,
Поскольку в них одни грехи
Возвеселитесь, петухи!
Убийцам правды страшен стих.
Чтобы одеть хвалою их -
Не голос музы, не стихи,
Необходимы петухи.
Камера в новгородской тюрьме
С детства легли в память слова распространенной песни: "Мы раздуем пожар мировой, церкви тюрьмы сравняем с землей". Минувшая война смела в Новгороде все, кроме церквей и тюрьмы. Или тюрем? Для областной столицы одного такого заведения мало, в Ленинграде их вон сколько, натощак не перечесть.
Говорят, мое новое обиталище построено а конце восемнадцатого века. При этом, согласно повелению Екатерины Второй, таким зданиям будто-бы придавали очертание царственной буквы Е. Отсюда получилось, что душеспасительное сооружение, вынесенное стыдливо за городскую черту, по-своему сохранило память о склонной к грешным удовольствиям императрице. Чем еще известна в истории венценосная дама? Состояла в переписке с французскими философами. Казнила собственного супруга, а потом несчастного узника Ивана VI Антоновича. Воспета Пушкиным в "Капитанской дочке". Но ведь это была не монахиня, а монархиня, одна буква тут решает все.
--------------
Новгородская тюрьма помещалась на отшибе, следственные кабинеты в городе, недалеко от кремля. Каждый день машина с решетками на узком окошке возила арестантов туда и обратно. Доставленных на допросы охрана рассаживала по тесным клеткам, сидеть в ожидании вызова к "следователю" надо было несколько часов, не шевелясь. Так выглядела дополнительная пытка, пополнявшая другие - возможные и узаконенные.
Вместе с мужчинами перевозили женщин, они забивались в угол кузова и молчали. Однажды, когда вечером узников доставили к воротам тюрьмы, скучающий охранник спросил одну заключенную:
- Ты-то за что сидишь, красуля? Неужто за контру, будто и дела другого для тебя нет?
- Она ребеночка своего удушила, - ответила за спрошенную бойкая подруга.- Ребеночек-то от знакомого получился, незаконный значит. Она и…
- От знакомого. Гы-гы-гы! - засмеялся охранник и пошел открывать ворота. Другой страж, отсчитывая привезенных людей по пятеркам, впустил их в тюремный двор.
--------------------------------------
В конце января 1949 года меня вызвали на первый допрос. Дмитрий Иванович Шарапин, "следователь", хранил на лице озабоченность усердного искателя истины, в действительности же он скучал: поднадоели все эти встречи с людьми, упорно отрицавшими свою вину, начинает уже тошнить от протоколов, очных ставок. Но работать нужно, никуда не деться. И этой постылой работы крупно прибавилось: после войны стали "подбирать" не только давних арестантов, но и многих, побывавших за границей, дышавших чужим воздухом, видевших другую жизнь. Для последних уже существовал свой набор вопросов: "Так какое вы там получили задание? Сколько вам заплатили?". В ответ на отрицание своей вины подследственным раздавалось6"Сознавайся. Предатель, изменник, вражья твоя душа!". Или: "Оправдываться можно в МВД, а здесь, в органах госбезопасности, надо каяться!". С бывшими узниками разговаривать приходилось чуть иначе. Приписывать связь с иностранными разведками людям, томившимся под надзором в разрешенном для проживания захолустье, было трудно, здесь чтобы оправдать повторное заключение, искали другие поводы.
- Это вы сочинили стихи " Санитарный казенный инспектор"? - спросил Шарапин, устремив на меня немигающие глаза.
Перед ним лежал знакомый листок. Вот он где, а я его искал. Но ведь гостей не бывало. Только… да, старуха-сослуживица как-то зашла: "Иду мимо, дай, думаю, зайду посмотрю как устроены, может. Надо чем-то помочь, я-то старожилка боровичская". И тут вдруг позвал сосед, я отлучился… Но лишь на две минут, не больше. Не больше. А жены дома не было…
- Повторяю вопрос: вы сочинили? Отвечайте! - сказал Шарапин.
- Вами ли сочинены стихи "Санитарный казенный инспектор"?
- Да, стихи написаны мною.
- Так. Еще какие писали? Имею ввиду стихи?
- Других не помню.
- Не помните! Так. Что же, можно помочь вспомнить. Где "Лестница к солнцу"?
Именно так я решил назвать своих стихотворений, написанных. Начиная с 1939 года. Запись об этом хранила бумажка, подколотая к листку с "Инспектором".
- "Лестница к солнцу" - название для будущего сборника. Такого сборника в настоящее время нет.
- Нет и не будет! Но стихи, которые вы хотели в него включить, где они?
- Они не написаны. Они существуют лишь в моей голове.
- Следствие вам не верит. Вы не можете столько помнить наизусть.
- Стихи существуют в моей памяти. Их было немного. Но сразу вспомнить не могу.
- Ага, значит, стихи сочинялись: вы сразу их вспомнить не можете, но потом…. Если не вспомните, вам придется плохо, очень плохо.
"Дело-то худо, - размышлял я когда меня везли обратно в тюрьму- надо спасать положение". И к следующему допросу наскоро сочинил какие-то корявые стишки, вложив них верности "не тот душок", но, конечно, небольшой. Произнес новорожденные творения перед Шарапиным, он отозвался:
- Так. Зачем же только возводить было такую напраслину на нашу действительность?
К следующему допросу я придумал еще несколько строк и предварение: "вот, с трудом вспомнил…". Но Шарапин, выслушав очередное сочинение, подозрительно оглядел меня и проговорил:
- Вы хотите затянуть следствие, выдавая через час по чайной ложке. В действительности, я уверен, что "Лестница к солнцу" где-то существует мы ее найдем. Для этого применим крайние меры, после которых вы проживете недолго, нам это разрешено. Знаете, как сказал великий пролетарский писатель Максим Горький? "Если враг не сдается, его уничтожают", вот его слова.
О. этот "великий пролетарский писатель", шумно возвестивший миру о "чудодейственном гении Сталина" в книге 1928 года "По Союзу Советов"!
Годы страданий огнем высекли мне эти слова, легшие в основание набиравшего силу идолопоклонства. И вот из тех же старческих уст: "если враг не сдается. Его уничтожают". Это глубокомысленное изречение, исключающее не только состязание, но даже сосуществование разных мнений, следовательно, саму свободу. Сколько раз, взяв на вооружение такую человеконенавистническую премудрость, повторяли ее перед невиновными людьми!
Настал серый февральский день, когда было особенно тяжко: меня допрашивали четверо. "Следователь" Шарапин, военный "прокурор" Тамбиев, начальник "следственного" отдела Цапаев, "следователь из Боровичей Кружков, арестовывавший меня при помощи Оболенского и двух других - итого четыре служителя падшей Фемиды. Они шли на меня стеной. Я сидел в углу следственной камеры, они наступали, надвигались на меня. Сверкавшие глаза на потных, разъяренных лицах, нестройный хор голосов:
- Где "Лестница к солнцу"?
- Её нет. Отдельные стихи вспоминаю с трудом.
-Где спрятана "Лестница к солнцу"?
- Её нигде нет.
- Мы разрушим дом, где вы жили, найдем тайники! Мы перероем у ваших знакомых все! Но лучше скажите честно: где? Следствие учтет чистосердечное раскаяние.
- Мне раскаиваться не в чем, сборника нет. А стихи могу вспомнить лишь постепенно. Арест принес мне потрясение, памяти нужно успокоиться.
- Потрясение от ареста! Ещё не то будет! Советуем одуматься, это последнее предупреждение. Запирательство не поможет!
Крик стоял долго, я отвечал одно и то же. Вдруг раздался стук в дверь, вошел человек в меховой куртке, обратился к Цапаеву: "товарищ полковник, машина у подъезда". Цапаев, Тамбиев, Кружков ушли, Шарапин вызвал конвоира.
- Уведите.
Я возвращался в тюрьму с тревожными мыслями: "Неужели будут ломать стены в доме тихой Нины Ивановны, хозяйки, ломать из-за меня? И неужели станут обыскивать моих товарищей по институту, это же уже ужасно! Однако, что же делать?" Мысли метались, мешались…"Написать им по памяти все стихи? Но…".
"Написать им по памяти все стихи? Но они не поверят, что это все, будут кричать и топать сапогами, брызгать в лицо слюной и грозить…".
И потом я понял: сказанное сердцем нельзя отдавать в руки палачей.
"Да нет, о воспроизведении стихов на потребу палачей "следователям" не может быть и речи, это значило бы предать себя и тех, для кого эти стихи написаны. Притом, стих понятен и хорош только людям, а не их врагам. Только людей стих способен если не всегда исцелять, то непременно утешать. Позволять человеку хоть на время забыть о бедах - великое счастье стиха".
"Сказанное сердцем нельзя отдавать в руки палачей"
Вспомнилось давнее, пятнадцатого века, стихотворение арабоязычного поэта Атааллаха Аррани, возрожденное моим переводом:
Рождаемых число ряды усопших множит.
Бессмертной жизнью тешится мечта.
За гробом жизни нет и быть ее не может,
Идет за жизнью смерть, за смертью - пустота.
Воскреснуть мертвецу природа не поможет,
Она и без того по горло занята.
Умру я, знаю. И не ради долголетья
Грядущее меня бессмертным назовет.
Настанет мой предел, и перестану петь я
Угаснет гордый дух и оборвется взлет.
Но если голос мой пробьет тропу в столетья,
То подвиг мой в сердцах потомков оживет.
Не в час, когда мое дыхание прервется,
И плача, предадут меня земле друзья,
Не в час, когда в меня голодная вопьется,
Растащит червяков голодная семья -
- А в час, когда мой стих во всех сердцах сотрется -
-Лишь в этот страшный час скажи, что умер я.
На следующий допрос я пришел натянутый, как струна, готовый ко всему. Но вдруг вопросы кончились Шарапин протянул мне исписанные листы протокола и хмуро сказал:
- Подпишите.
В протоколе стояло, что я 2написал ряд антисоветских стихотворений, в которых порицал государственный строй, отрицал достижения народа, достигнутые под руководством…. Клеветал…", и далее в том же роде. Ладно, Пишите, что хотите, из тюрьмы все равно не вырваться, вы и ангела превратите в черта. Знаю, что преступники - не я и другие схваченные, а вы и ваш верховный повелитель. Будущее все расставит по своим местам.
Я подписал протокол и протянул его Шарапину.
Это было удобно для него. Подследственный сознался, скрепил протокол подписью, вот и все. Основание для обвинительного приговора есть, следствию тут больше делать нечего. Вскоре можно будет перейти к следующему делу, полковник Цапаев стал уже поторапливать. А там отпуск, путевка на Черное море или еще куда-то на юг, только на юг, не иначе.
Спустя некоторое время Шарапин вызвал меня в последний раз. Он был весьма нетрезв и это делало его разговорчивым.
- Так вы и не сказали, где прячете "Лестницу к солнцу". Ну и не надо!
Подумаешь, важность, какая эта ваша "Лестница". Вы думаете, что вас арестовали за стихи? Да чепуха. Это я вам говорю. Поняли? Чепуха ваши стихи и …(он произнес непечатное слово). Кому они нужны? Что они есть, что их нет…
Он то четко выговаривал слова, то бормотал и гнусавил, как это делают пьяные, но суть речи была ясна. Я приободрился.
- У Ленина сказано: "каждый волен писать и говорить все, что ему угодно, без малейших ограничений".
Шарапин махнул рукой.
- Да оставьте вы это все, смените пластинку! Арестовали не ваши писания, а потому что…. Потому что хлопотали за вас всякие там академики, бряцали своими званиями и все об одном и том же: "снимите судимость, разрешите прописку" и всякое такое. Ну, надоело, что нас дергают, звонят, пишут, будто мы сами знаем, что делать! Мы и решили вас взять, понятно? Ну-с вот, об этом довольно. Сегодня будем кончать дело.
Я сидел потрясенный неожиданным откровением.
- Так - продолжал "следователь". - При обыске у вас были изъяты письма какой-то Серебряковой1. Обвинение не нашло в них дополнительных данных. Поэтому они будут уничтожены, распишитесь, что вам объявлено.
Ира!... Лавина мыслей пронеслась в голове. Ира… Погибла ты, рухнула в тот страшный ноябрьский день а теперь на гибель обречены листки, которых касались твои руки, письма, последнее, что оставалось от тебя. Письма, утешавшие, поднимавшие меня в лагере. Долго берег их, а сейчас… Прости, не осуди, вот, не сберег. Ни тебя, ни твоих строк.
- Что тут думать? - нетерпеливо проговорил Шарапин. Старые какие-то бумажки, уже и не разъять, гниль одна, труха. Ну, верни я их вам, куда вы с ними? Попадете отсюда в лагерь, охрана их отберет и выбросит. При первом же обыске.
….И я соглашаюсь, что отберут, выбросят, а на волю передать их некому, охранное ведомство не станет ждать, когда за письмами Иры когда-то приедет мой брат. Нет выхода.
Но он есть. Выход в память. Она - мое достояние, её все ещё не смогли у меня отнять и никогда не отнимут. Памяти не страшны ни обыски, ни "следователи", ни конвоиры, она все хранит, хоть пережито уже немало. Ира, теперь никто не дотронется до твоих листков, только моя смерть. Но мне надо жить. Я выживу в повторном заточении, значит, и ты. Будешь и ты жива.
- Ну вот -сказал Шарапин, принимая от меня расписку. - Теперь подпишите протокол окончания следствия, и дело с концом.
----------------------------------------
Когда дело закончилось, можно было предаться спокойным размышлениям.
Первопричина моего ареста - верховный приказ, спущенный низовым исполнителям и касающийся всех бывших политических заключенных. Он дал возможность местным органам государственной безопасности в моем случае "убить двух зайцев": исполнив общее предписание о лишении свободы, тем самым закрыть вопрос и ленинградской прописке человека, за которого настойчиво хлопотали представители подозрительной научной среды. Вопрос был закрыт противоестественно, однако это вполне соответствовало духу конца сороковых- начала пятидесятых годов.
Искаженная философия государственного правления сделала эти две подлинные причины тайными, а для оправдания моего ареста изобрела третью, ложную - "антисоветское стихотворение". Чтобы выжать из такого пугала , сочиненного надзирателями страны, предельное количество масла, четыре сотрудника охранного ведомства в течение нескольких рабочих часов топтались передо мной, требуя предоставить им "Лестницу к солнцу" этого же долго и нудно домогался наедине со мной самый упорный из них "следователь" Шарапин . Первое особенно запомнилось, это была пляска четырех под звуки безумной музыки, нисходившей со священных московских высот. Граждане начальники, зачем вы это делали, ради каких святынь служили лжи, обессиливали родную страну - ведь ваша кривда отняла у нее миллионы любящих и работоспособных сынов и дочерей? Вы рождены в образе людей - почему же не хотели оставаться людьми?
Вы были готовы мучить меня еще и еще более тяжко - но жертв чересчур много, вам пришлось поторопиться. Вы остановили пляску, сочинили лживый протокол. Я его подписал - почему? Потому, что правда была неспособна помочь мне, она была узницей, как и сам. Правда жила в тюрьмах и лагерях, на воле ее не было, а поэтому не было и самой воли.
Изуродованное правосудие1949 года - кратко выражаясь, кривосудие -считало подпись арестанта под ложью придуманной "следователем", драгоценной добычей, твердым основанием для осуждения.
Итак, мне оставалось ждать решения: на сколько лет и куда.
…Спустя много весен и зим как-то подумалось: а что. если тогда, в 1949-м отпустили? И вдруг подкрался ужас. Да, неполных сорока лет защитил бы докторскую диссертацию. Стал бы старшим, ведущим, главным научным сотрудником, профессором, членом ученых советов, адресатом юбилейных адресов, похожих друг на друга, как я яйца одной курицы. Глядишь, при этом достиг бы каких-то академических высот. Но не было бы стихов, увидевших свет в сборнике 1998 года "Озарение". Вступая в зрелый возраст, я может быть со снисходительной улыбкой оглядывал бы созданное мной в первом творческом десятилетии, с 1939 по 1949 годы, и позже: "что поделать, грехи молодости, однако ученому академисту они ни к чему". Кем бы я стал, кем бы? Что оставили бы людям, памяти человечества годы моего учения? Десятки сухих малопонятных статей, которых почти никто не читает, набор скучных ученых ссылок, которых никто никогда не проверяет, умозаключений, от которых никому ни холодно, ни жарко? Увы. Таких изделий в нашей ученой арабистике много. Привычное заразительно, и меня могло бы не спасти то, что в науке я выбрал непроторенную дорогу.
Но жизнь распорядилась иначе. Она ввергла меня в такое царство бесправия и жестокости, перед которым померкли трудности первого моего заточения. За годы новой неволи довелось увидеть и пережить столь много своих и чужих бед, что сердце не смогло остаться безучастным, оно отзывалось на горе народа все новыми и новыми стихотворениями.
Когда у меня требовали "Лестницу к солнцу", она была еще в зародыше. Решение стражей неправедного порядка продлить и ужесточить мои страдания заставило "Лестницу" взметнуться новыми ступенями и возмужать. Конечно, быть может, не всем и даже далеко не каждому понравятся приводимые на этих страницах стихи - но они помогали мне и помогли выжить на долгой каторге. Более того, они глубоко воздействовали на язык моих научных работ, сделав их содержание доступными каждому человеку. Сказанное должно объяснить, почему я благодарен своей судьбе и, как это ни покажется странным, моим тюремщикам, которые, сами того не желая, создали благоприятные условия для моего творчества.
------------------------------------------
Не на южном - на завьюженном,
На острожном берегу
В горле узком и простуженном
Песни солнцу берегу.
Я сложил их по кирпичикам
Из рассыпавшихся дней
И по их недетским личикам
Вьется тень судьбы моей
Что их ждет, когда исторгну я
Из груди последний вздох?
Час придет и смертно вздрогну я,
Жизней нет ни двух, ни трех
Друг, с которым не лукавил я,
Не придти мне в мир опять.
Сохрани же, что оставил я
То, что я успел сказать.
Мчатся миги быстротечные.
Ветер жизни свеж и крут.
Пусть уйду я в дали вечные,
Песни солнцу пусть живут.
Их ты жребию печальному
Не отдай , а сбереги,
С ними, друг, к порогу дальнему
Без оглядки убеги.
Над морями да над сушами,
Средь пустынь и спелых нив,
Меж томящимися душами
Пусть мой голос будет жив.
Будь, заря, ему предвестницей!
Он со светом вечно слит,
В ком-то встанет к солнцу лестницей,
Чье-то сердце исцелит.
Потому-то на завьюженном
Берегу я выжить смог,
В горле узком и простуженном
Песни солнцу я сберег.
**************
Со взором горящим, со смехом холодным
Я слушаю речь своего палача:
"Да разве я сам? Комиссаром народным
Приказано было. Рубили с плеча".
Он ехал на зов, не колеблясь нимало,
Исполнить любое веленье готов,
И совесть покорно ему позволяла
Мужей убивать и насиловать вдов.
"Не я же придумал…". Искрошены зубы,
Потухли глаза и желта седина.
Он трусит. Сомкни-ка бескровные губы.
Дожевывай деснами жизнь, старина.
************************
Ах, этот ум, начало бед и бед!
Порядка бич! Отравленное жало!
Он век спешит оставить в каждом след,
Сомнения во что б это ни стало.
Упрямый спорщик! Лихо и чума!
Всем подданным велел бы я указом
Произвести прививку от ума,
Что б истребить его навек и разом!
*******************************
Поэзия в пристойном царстве - вывих.
Вельможам надлежит распорядиться так:
Поэтов расселить среди шутов спесивых,
Заносчивых глупцов и забияк.
Уж эти- то нагрянут целым светом,
В живом уме все, что найдут, губя.
Тогда лишь тот останется поэтом,
Кто любит музу больше, чем себя.
********************************
Не у лавчонок суетного тора,
Не у святыни гордого столпа
- У серого приземистого морга
Молчащих женщин темная толпа.
За старой дверью, ноюще скрипящей,
И узники, и узницы тюрьмы,
Невдалеке за насыпью стоящей
Погружены в объятья вечной тьмы.
Исхлестаны рабовладельца плеткой,
Оболганы, поруганы - они
За ржавой многоверстною решеткой
Окончили страдальческие дни.
Теперь вдова, пятерку сунув страже,
Идет к тому и этому концу,
Ища средь мертвых, успевая даже
Найдя, припасть к недвижному лицу.
-"Давай кончай!" - кричит у двери стражник -
Домой вернешься -там и порыдай!
Что мешкаешь? Тебе, чай, тут не праздник!
Вон очередь, гляди! Освобождай!
**********************
У ослепленных жадностью и страхом,
У тех, кто в смрадной лести били лбы,
Перед глядевшим в очи грозным крахом
Во все года хватало похвальбы.
Зато теперь, трезвея понемногу.
Мы чувствуем: тяжеловат венец…
И думаем - куда поставить ногу,
С чего начать, чтоб не пришел конец.
Вот некоторые из новых ступеней моей "Лестницы к солнцу"
********************************
Вместе со мной в камере новгородской тюрьмы помещались ветеринарный врач из Боровичей и сельский священник из-под Шимска.
Ветеринарный врач запомнился мне слабо, даже имя и отчество забылись после того, как с ним расстался. Более прочно вошел в память священник Иван Яковлевич Софронов, которого ветеринар неизменно называл "отец Иосиф".
- Какой он вам отец? - возмущался я, когда Софронова увозили на допрос, и мы оставались одни.- Вам-то за шестьдесят лет, ему едва за сорок, вы в полтора раза старше!
- Так принято! Духовное лицо!
- К чему этот самообман, эта вечная повязка на глазах, самовнушение, что какой-то "отец" должен вас куда-то вести, как ребенка? Сии "духовные лица" такие же люди, как мы с вами, те же две руки, две ноги и прочее.
- Вы неправы. Ему ведомо то, чего мы, простые люди, не знаем, он учит нас…
- Учить он не может, потому что не ведает, не знает, а верит. Но человеку нужна не вера, он ищет знания. У него одна жизнь, зачем же её тратить на отбивание поклонов?
- Ну, знаете, вы как хотите, а я верю и буду верить!
Он начинал сердиться и умолкал. Думалось: "вот ведь! Стал не попом, а врачом и животных лечит не заклинаниями, а открытыми наукой лекарствами. Говорит, что в тюрьму его привело стихотворение про какого-то кота, который поднимал тост "за умное правительство". Значит , есть некая живинка в сердце, зачем же он её умерщвляет и хоронит под слепой верой в то, чего не может и не пытается себе представить?".
При возвращении Софронова с допроса ветеринар бросался нему:
- Ну как, Отец Иосиф?
- Как дела, Иван Яковлевич? - спрашивал я, подчеркивая обращение.
Священник бросал на меня хмурый взгляд, крестился, отвечал:
- Да все плетут несусветное, Господи Исусе!
В узком пространстве камеры поневоле приглядываешься к человеку, который, если его не вызвали к следователю, находится у тебя перед глазами от подъема до отбоя. Особенно этот человек привлекает внимание, когда усталый мозг другого отдыхает от постоянной напряженной работы. Я нередко видел Ивана Яковлевича стоящим у нашего густо зарешеченного окошка, он смотрел на чуть заметный краешек неба. Из его уст негромко лились церковные песнопения, чаще других - "Радуйся, Николае, великий чудотворче…". Лицо священника, обрамленное каштановыми волосами, ниспадавшими на плечи, такого же цвета волнистой бородой и усами, было печально и торжественно, даже, казалось, отпечаток какого-то возвышенного чувства светился на нем.
Но постепенно в моих мыслях на этот облик стали падать одна тень за другой.
Запомнилось, как благочестивый песнопевец, ежедневно толковавший о милосердии, топил в параше пойманного мышонка, наслаждаясь предсмертными муками несчастного зверька, пресекая его попытки выбраться. Мыши в камере - зло, но убивать свою добычу сразу Софронов не стал. Она была в его руках, он решил ее помучить.
Бывший когда-то монахом, "отец Иосиф" боялся, чтобы его не соблазнила какая-нибудь женщина. Ни жены, ни семьи он не имел. Вызвал улыбку его рассказ о том, как некогда его пригласили в гости, потом хозяева оставили гостей ночевать и тут одна нечестивица стала "подлезать" к нему, мирно почивавшему в углу комнаты. Однако, девственный Иван Яковлевич устоял и, воспылав праведным гневом, удалился в холодные сени, где осенил себя крестным знамением и дождался утра.
Но другой рассказ из этого разряда уже возбуждал смех.
Сколько-то лет назад Иван Яковлевич отбывал ссылку в некоем карельском городке В один из дней внезапно хлынул проливной дождь. Подбежавшая женщина, желая укрыться от непогоды, постучалась в избенку Софронова, но он её не впустил.
- Как? - поразился я. - Иван Яковлевич, но почему же?
Священника раздражало мое "Иван Яковлевич". Он, как обычно поморщился и холодно ответил:
- Разве вам непонятно? Наедине с мужчиною, в сухости да тепле…
Разум той гражданки могли помутить греховные желания.
- Какие желания? Ей просто нужно было переждать ливень.
- Ну, это вы так думаете. А у неё могли быть порочные намерения.
- И вам не было её жаль? Бедняжка могла промокнуть до нитки, простудиться.
- Господь и казнит и милует. Потом Он пресек дождь и позволил засиять солнцу.
Тогда одежды женщины высохли.
- Иван Яковлевич, а как же насчет любви к ближнему? Вы-то за свою жизнь произнесли эти слова не один раз! Что же, Господь позволяет вам говорить одно, а делать другое? Не греховны ли вы, не тешите ли сатану?
- Какое поношение! Какое поношение! - воскликнул Софронов, возводя глаза к потолку. Старик-ветеринар смотрел на меня неприязненно.
"Надо оставить его в покое - подумал я, выслушав рассказ и последующие речи бывшего монаха. - Ему ничего не докажешь. Он болен и болезнь эта неизлечима. А жить приходится в одной камере с ним".
Мысли ушли вглубь.
"Какая беда, какое унижение человеческого достоинства и возможностей человеческих - вера, слепая вера! Представления, не рассуждающие и не терпящие возражений. Ведь это все - душевная болезнь, которой заражено множество людей. Академик Павлов призывал к последовательности в науке, и он был прав, ибо вне последовательности науки нет. Но он ходил в церковь, значит, сам был непоследователен, ибо знание и вера несовместимы".
"Заблуждением людей пользуются любители жить за чужой счет. Ради осуществления этого низменного вожделения они постарались окружить себя туманом святости. Смотри, сколько в мире "князей церкви", для них по образцу грешной мирской лестницы к трону придуманы свои ступени. В миру было "ваше благородие", "ваше превосходительство", "ваше высокопревосходительство", "ваше величество", а под сводами церкви было и есть "ваше преподобие", "ваше преосвященство", "ваше святейшество". Долго, поедая народный хлеб, придумывали эту благозвучность, вселяющую страх в тысячи душ, заставляющую их никнуть перед малыми и большими вельможами церкви. Страх одних позволяет ненасытно обогащаться другим".
"А слова "пастырь" и "паства" разве не постыдны? Вот этот святоша Иван Яковлевич пасет старого ветеринарного врача, как теленка, и негодует на меня за то, что я не хочу быть в стаде и слушаться его, пастуха. А как бы он хотел примерно покарать меня за безверие в острастку другим, да вот нет у него такой возможности".
"Господь почему-то вверг праведника в тюремный ад и не выводит его на свободу. А я желаю, чтобы Иван Яковлевич Софронов как можно скорее покинул тюрьму живым и здоровым и пусть его впредь никогда не коснется беда".
Среди этих мыслей родились стихи:
Отступник.
По вычурному- пастырь.
А попросту пастух
Накладывает пластырь
На наш здоровый дух.
Во лжи теряя меру,
Твердя, что знанье - тьма,
Он прививает веру
И лечит от ума
Но я - худое чадо,
Я пастыря не жду,
Куда мне в жизни надо,
Я сам себя веду.
21 июня 1949 года мне проставили свидание. За двумя густыми сетками , меж которых тупо шагал прослушиватель-охранник, стояли моя Тася2 и специально приехавший с Кавказа брат Иосиф3. На руках у него помещался четырехлетний мой сын.
- Не падай духом, береги себя, все будет хорошо, - говорил мне Иосиф.
25 июня объявили новый приговор того же неотступно-преступного "Особого Совещания" в отношении меня: десять лет "исправительно"-трудовых лагерей4. Хорошо. Мучители, я сберегу себя наперекор вам…
Примечания
1 Серебрякова Ирина - студентка филфака ЛГУ. Невеста Т.А. Шумовского. С началом войны работала санитаркой в госпитале в Ленинграде. Спасая раненых, погибла во время бомбежки города в 1942 году.
2 Будылина Таисия Ивановна (1918-1971) - с 1945 года - жена Т.А. Шумовского и хранительница его рукописей. В последующие годы - автор многих обращений в различные инстанции с просьбой о пересмотре "дела" мужа.
3 Шумовский Иосиф Адамович (1905-1987) - старший брат Т.А. Шумовского. Жил в Азербайджане, в Шемахе - городе детства автора воспоминаний. После ареста младшего брата взял на себя заботу о его семье.
4 . Документы первого ареста опубликованы в журнале "Звезда", 2002, №8. Второй срок закончился в 1956 году, реабилитирован в 1962 году
Слушайте
ФОРС-МАЖОР
ДЕТЕКТИВ
Отношения с мужем натянулись еще сильнее. Ричард, правда, стал вежливым, но Лиза понимала, когда адвокат вежлив, значит что-то варится.
декабрь 2025
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
"Россия такая страна, которая ничего не боится. Простить террористов — это дело бога, моё дело — отправить их к нему. Россия не сердиться, Россия сосредотачивается. Вышли, не имея права, — получите по башке дубиной."
декабрь 2025
ИСТОРИЯ
У Эдди было слабое место-сын, которого он обожал. Эдди скрывал свою связь с мафией. Он хотел чтобы сын был лучше, чем он сам. Эдди мечтал оставить сыну своё доброе имя и личный положительный пример. В какой-то момент Славный Эдди решил искупить все содеянное и рассказать властям об Аль Капоне.
декабрь 2025
ПРОЗА
Дед закончил войну под Берлином и вернулся домой с тремя ранениями, двумя контузиями, орденами Красного Знамени и Славы, кучей медалей и вот этим пистолетом. …Сергей взял пистолет в руку и ощутил его приятную и убийственную тяжесть: снял с предохранителя, передёрнул затвор и, отведя руку в сторону и вниз, нажал на спусковой крючок….
декабрь 2025