Мастер из Филадельфии
Трудная дорога символических cмыслов
Опубликовано 12 Мая 2016 в 10:00 EDT
______________________
ОБ АВТОРЕ
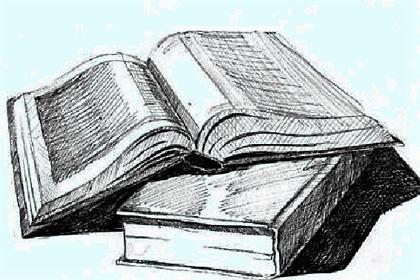
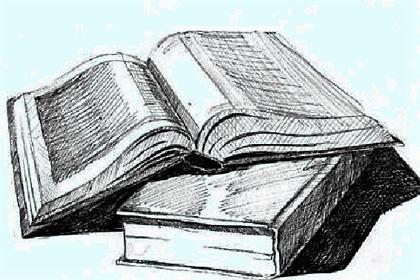 Панченко Ирина Григорьевна - литературовед, критик, педагог, журналист. Родилась в Ярославле. Окончила Киевский университет им. Т. Г. Шевченко. Кандидат филологических наук, доцент. Член Союза журналистов Украины. Преподавала русскую литературу в Киевском педагогическом университете им. М. П. Драгоманова, затем в Киевском университете им. Т. Г. Шевченко, и, наконец, в Киевском университете усовершенствования учителей им. Б. Д. Гринченко.
Панченко Ирина Григорьевна - литературовед, критик, педагог, журналист. Родилась в Ярославле. Окончила Киевский университет им. Т. Г. Шевченко. Кандидат филологических наук, доцент. Член Союза журналистов Украины. Преподавала русскую литературу в Киевском педагогическом университете им. М. П. Драгоманова, затем в Киевском университете им. Т. Г. Шевченко, и, наконец, в Киевском университете усовершенствования учителей им. Б. Д. Гринченко.
С 1997 года - в Филадельфии. Член AATSEEL - Американской Ассоциации славистов и преподавателей языков стран Восточной Европы. Регулярно выступала с докладами на ежегодных международных научных конференциях этой ассоциации.
Автор пяти книг ("В поисках совершенства. Про творчество Юрия Олеши". Киев, 1974; "Виктор Астафьев", Киев, 1980; "Практикум по ораторской речи", Пенза, 1990; "Мифы и фольклор народов мира", Киев, 2003; "Влюблённые в театр" (в соавторстве с К. Гамарник), Филадельфия, 2014).
Составитель и автор комментариев (в соавторстве с В. Скуратовским) 640-страничной антологии "Серебряный век" (Киев, 1991). Автор свыше двухсот статей в области литературоведения и культурологии.
Печаталась в российских, украинских, немецких, датских и американских изданиях на трёх языках (рус., укр., англ.), в том числе, в журналах "Вопросы литературы", "Литературное обозрение", "Collegium", "Лiтературознавство", "Всесвiтня лiтература", "Русский язык и литература в вузах Украины", "Сучасність", "Вiдродження", "Ренессанс", "Новый берег", "Мосты", Symposion - A Journal of Russian Thought ("Симпозион - Журнал российской мысли"), "Новый журнал", "Побережье", "Российская эмиграция: прошлое и современность" (изд. Научного совета Российской Академии Наук), "Слово/Word", "Зеркало" и др.; в газетах "Новое русское слово", "Панорама", "Мир", "Филадельфия" и др.
Из-за непоказной скромности этого человека немногие знают, что в Филадельфии живёт щедро одарённый талантом, своеобразно мыслящий литератор Филипп Исаак Берман. Ему подвластна форма рассказа, романа, драмы. Он пишет скупо, взвешенно, переживая и обдумывая каждое слово. За каждым его художественно-точным словом - умудрённость жизнью, опыт радостей, горя, религиозных переживаний и... сладкая мука самовыражения.
Берман рано ощутил своё литературное призвание. Ему хотелось делиться с читателем. Он никогда не был только "белым воротничком", несмотря на своё инженерное образование. За свою жизнь работал лесорубом, бетонщиком, штукатуром, асфальтировщиком, мастером на стройке, инженером на сталелитейном заводе, заведующим лабораторией. Его первые выступления в печати начались в 1960 году в многотиражной газете. Со временем несколько его рассказов появились в "Литературной России", "Московской правде", журнале "Человек и природа".
В литературную школу при Союзе писателей (семинар Юрия Трифонова) Берман принёс свои бесстрашно правдивые рассказы, заслужив похвалы не только руководителя семинара, но и таких авторитетных литераторов тех лет, как Юрий Нагибин, Сергей Антонов. Другой влиятельный в издательских делах писатель, безошибочно почуяв талант Филиппа, в разговоре с глазу на глаз обещал "раскрутить" его имя, если он откажется от своей фамилии и возьмёт славянский псевдоним.
Такая перспектива не соблазнила Филиппа. Ему была противна сама мысль о карьере официального, послушного власти, "прикормленного" писателя. Хмель чаемой свободы слова, без которой немыслима подлинная литература, кружил его голову так же, как и сознание его друзей-единомышленников (Е. Попов, Е. Козловский, В.Кормер, Е.Харитонов, Н. Климонтович, Д. Пригов). Они организовали в Москве независимую группу "Каталог", составили антологию своих произведений, задумав её издать вне цензуры. Это был смелый прыжок в литературу нравственного сопротивления. Между тем "на дворе" стоял глухой 1980-й, непримиримо и жестоко боровшийся с инакомыслящими. В 1981 году КГБ разгромили "Каталог". Берману в этой же организации убедительно пригрозили уголовной статьёй - и он в течение нескольких дней вынужден был покинуть страну.
В США Филипп работал инженером, преподавал в университете, не прекращая трудиться над рукописями, устанавливая литературные связи. В американском издательстве "Ардис" вышел альманах "Каталог" (не взирая на конфискацию КГБ рукописного экземпляра этой книги у Бермана до его отъезда). Там же, в "Ардисе", в 1984 году вышел роман Бермана "Регистратор", отрывок из которого был напечатан в "Каталоге".
Начиная с 1990-х годов, Филиппа публикуют в России. В 1991 году его роман "Регистратор" переиздали в Москве. Рассказы Филиппа Бермана (у него их более 50-ти) печатались в зарубежных русскоязычных журналах "Континент", "Стрелец", "Время и мы". Он постоянный автор филадельфийского ежегодника "Побережье". В антологии русского зарубежья "Третья волна" (1991) произведения Бермана напечатаны вместе с произведениями таких известных авторов, как Георгий Владимов, Василий Аксёнов, Фридрих Горенштейн, Сергей Довлатов, Анатолий Гладилин, Саша Соколов и др., которые составляют цвет русской эмигрантской прозы последних десятилетий. В 2005 году рассказ Бермана опубликовал престижный литературно-художественный журнал "Мир Паустовского" (Москва).
Стилистическая манера и содержание произведений Филиппа Бермана поражает своим многообразием. Стиль его может быть строго реалистическим, отличаться психологической точностью, когда внимание автора непосредственно приковано к социальным аспектам неприукрашеной российской жизни ("Косынка в белый горошек", "Квадрат", "Две жизни" и др.), а может быть и совсем иным: истончённо многомерным, обращённым к универсальным "вечным смыслам" и символам, мерцающим таинственной красотой и драматическим подтекстом. Тогда нечто загадочное и мистическое проступает сквозь ткань повествования. Именно к такого рода произведениям относится притча Филиппа Бермана "Небесно-Деревянная дорога". Впервые она была опубликована в альманахе "Побережье".
"Небесно-Деревянная дорога" - это поэтическая притча с мифологическим подтекстом. Не случайно автор в главные герои притчи выбирает тихого сумасшедшего парня Исаака. Душевная болезнь освобождает человека от общепринятых табу ("Он забыл страх, он стал свободным человеком. Неожиданно для всех он стал сильным и красивым человеком"). У Исаака чрезвычайно развита интуиция, в нём остро проявляется подсознательное. Окружающие зовут его "Исаак-дурачок", однако Исаак в притче Бермана, подобно Ивану-дураку в русских сказках, оказывается куда мудрее, талантливее и проницательнее окружающих его так называемых нормальных людей. Автору такой герой нужен для мотиворовки всего необычного, что происходит в его рассказе.
Необычно ощущение времени, которое дано Исааку. Он одновременно осознаёт своё время как сиюминутную данность и как таинственное "время жизни", в котором он, человек, "когда-то был". Таинственное "когда-то" оказывается библейским временем его отца Авраама, который хотел четыре тысячи лет тому назад принести своего сына Исаака в жертву Богу. Исаак сегодня простил и понял отца, тоскует о нём. Четыре тысячи лет ищет Исаак Небесно Деревянную - духовную и одновременно земную - Дорогу жизни, которую нашёл его отец, а "дети детей его детей потеряли её". Поиск смысла жизни человеком вечен и тяжек, когда распадается связь времён.
Небесно-Деревянная дорога - это главный, ёмкий и многомерный символ в притче Бермана. Смыслы символа каждый читатель волен понимать по-своему. Если человек сможет попасть на Небесно Деревянную дорогу (бесстрашно пойти по предназначенному духовному и жизненному пути, "взлететь в небо"), ему откроется "тайна жизни", как открылась Исааку правда о его отце Аврааме и Боге в той жизни, в которой он, Исаак, "когда-то был".
Бог в притче Бермана - это всё сущее: "он есть всюду". "Все горы и холмы и все деревья. Всё, что ползает и что летает, и всё, что ходит и бежит". Такое пантеистическое восприятие вселенной диктует человеку доверие к Богу. Человек вместе с деревьями, горами и холмами должен благословлять Бога и петь ему песню.
В притче явно различимы два мира, один реальный, обыденный, где Исаак живёт вместе с матерью и работает таксистом, и другой - необычный, мистически-ирреальный (Иномирье, как в народных заговорах), в который и ведёт Небесно Деревянная дорога. Зазеркальное Иномирье похоже и таинственно непохоже на обыкновенный мир. Мир реальный, где двор, дом Исаака, город с ресторанами и аэропортом, находится внизу. Ирреальное Иномирье располагается вверху, где-то в небесах, над быстрой прозрачной на камнях рекой, над Черешневой горой, там, где "плавилась, варилась земля, текла жизнь, рождались и умирали люди, лились дожди и текли реки, и были красно-зелёные рассветы". "Это там всё сотворялось...". Внук Исаака (ещё нерождённый Дэниэл - вспомним особое восприятие этим героем времени) говорил, что это отсюда летали вниз падающие звёзды.
Верх и низ мифологической вселенной взаимопроницаемы. Как и в классической модели мира в мифах, они связаны в притче Бермана вертикалью с помощью "дерева жизни", которое одиноко растёт во дворе Исаака. Парень любит забираться на "своё дерево", чтобы взглядом окинуть как можно большее земное пространство вместе с небом над головой, "чтобы найти что-то, что он искал..."
Однако "тайны жизни" открываются не пассивным созерцателям, а тем, кто смело отважится нестись по Небесно Деревянной дороге, где "остановки запрещены. А если остановишься, то и погибнешь". В притче автор создаёт целые цепочки дочерних образов-символов по отношению к главному символу. Это прозрачная и опасная река с быстрым течением; это птица, легко взлетающая с дерева жизни высоко в небо, за которой бежит и жадным взором следит Исаак; это дикие сумасшедшие лошади соседа-ковбоя, выигрывающие все скачки, "не ведая земли, где родились и жили"; это, наконец, "классик-мустанг", автомашина Исаака, которая, "будто пришпоренная несётся к Небесно Дереянной дороге", чтобы взлететь над ней в небо. Все эти образы стремительного движения, полёта символизируют извечный, неугасимый, жадный до новизны порыв человека в неизведанное и запредельное, первозданное и космическое, за которым, как он надеется, сотворяется счастье.
С подобными надеждами человека связан в притче образ Гончарницы из Иномирья. Эта необычная странная женщина жила вверху, на Небесной дороге в том месте, где была Гончарная: "Это здесь сотворялся весь существующий мир... Бело-розовая глина становилась жизнью, а жизнь долгим временем превращалась в бело-розовую глину... Там... сотворялась жизнь. И любовь". С Гончарницей Исаак испытал неслыханное по чистоте, интенсивности и безоглядности чувство растворения в ликующем женском начале, чувство полного слияния с женским естеством. Исааку была понятна и близка мольба-молитва той женщины: "Несите меня, несите меня в небо! В небо несите меня, о Боже!". Когда они с Исааком неслись по Небесно-Деревянной дороге, своё страстное заклинание Гончарница повторяет в притче множество раз, прежде чем высказать Исааку извечно-женское, сокровенное: "...О Господи! Свой корень жизни оставь мне, милый, чтобы он дал росток от тебя, чтобы жил там внутри от твоего ствола жизни, от этого неба, куда мы вместе несёмся, куда мы летим, может быть в последний раз вместе с тобой!". В этих экзальтированных словах Гончарницы можно услышать отголоски обнажённо-откровенных признаний Суламиты (Суламифь), возлюбленной царя Соломона из ветхозаветной "Песни Песней": "Положи меня, как печать, на сердце твоё..."; "Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют её"; "Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него"; "...скажете вы ему, что я изнемогаю от любви". Но есть и существенное отличие: о материнстве, о сотворении новой жизни нет ни слова в "Песни Песней Соломона".
Тем не менее, символическое значение образа Гончарницы в притче Филиппа Бермана, как мне представляется, корнями своими восходит не к Суламите, а к архетипу Богини-матери, древнейшей обитательнице неба, главному женскому языческому божеству в большинстве мифологий мира. Правда, этот образ в ранних мифологиях амбивалентен - он воплощал женское созидательное начало в природе, плодовитость, связь с умершими душами, участие Великой богини в космических актах творения. Однако, одновременно, Богиня-мать была олицетворением губительных страстей (злых чар, необузданности, войны). В притче Филиппа Бермана Гончарница символизирует не губительные, а исключительно магические, целительные функции. Она в притче "Небесно-Деревянная дорога" - источник витальной силы, воплощение любовной энергии, проповедница зачатия как божественной искры жизни. Разумеется, у Филиппа Бермана образ Гончарницы с мифологическими чертами ни в коем случае не "заимствованный" (по слову Сергея Аверинцева), а свой, заново сотворённый.
Интересно, что другие женские образы в притче Бермана тоже образуют символическую цепочку. Связаны с Гочарницей и женщина в шёлковой зелёной блузке, которая "когда-то была женой Исаака"; и "одна художница", которая научила Исаака писать маслом такие "глиняные лица", из глаз которых "текла их существующая жизнь" (так мог написать Андрей Платонов); и "одна богатая" ценительница глиняных портретов, нарисованных Исааком. Есть в притче и тонкие символические детали -знаки, подчёркивающие родство всех четырёх женских образов. На Гончарнице во время полёта по Небесно Деревянной дороге с Исааком была "блузка с зелёно-жёлтыми из мягкой жести цветами". На зелёной блузке бывшей жены Исаака "были нарисованы осенние жёлто-красные листья, будто вырезанные из жести". Такие "зелёно-золотые цветы" делала в городке, где жил Исаак, "одна художница в день рождения Бога". Исаак изобразил художницу, которая его научила писать маслом, рядом с вазой, "а зелёно-жёлтые цветы из мягкой жести плыли рядом с ней в воздухе, не задевая её". Богатая женщина захотела, чтобы Исаак нарисовал и её подобным образом. Художница внутри Гончарной, где жила Гончарница, где "сотворялся весь существующий мир", повесила слова-пластины. Каждый, кто приходил, мог прочитать: "Господь Бог правит Небесно Деревянной дорогой". Эти женщины объединены молодостью, единством эстетических вкусов, поклонением Божественной красоте - природе, искусству, истине. "Глиняные лица" и "глиняные тела", которые рисовал Исаак, также не случайны. Они связаны с той материей ("бело-розовой глиной"), из которой с помощью Гончарницы "сотворялась жизнь". Чем больше вчитываешься в ткань притчи, тем с большей ясность понимаешь, как тесно и убедительно, как искусно в ней всё переплетено, чтобы сделать наглядным и зримым единство мира и вселенной.
Встречая в притче "Небесно-Деревянная дорога" по-своему переосмысленные мифологические и библейские образы-символы, необходимо помнить, что сопряжение языческих и библейских образов характерно для постмодернизма, который стал позднейшим наследником мифологической эпохи.
Пройдя непростой дорогой сложных смыслов символики Филиппа Бермана, можно сделать вывод, что автор писал своё повествование не об отдельном гражданине конкретного социума. Он написал о человеке в мире (родовом, природном, космическом) как универсальном явлении. Великое литературное искусство понадобилось филадельфийскому Мастеру, чтобы сплавить глубокие бытийственные смыслы и осуществить синтез большой художественной силы и оригинальности.
Слушайте
ФОРС-МАЖОР
ДЕТЕКТИВ
Отношения с мужем натянулись еще сильнее. Ричард, правда, стал вежливым, но Лиза понимала, когда адвокат вежлив, значит что-то варится.
декабрь 2025
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
"Россия такая страна, которая ничего не боится. Простить террористов — это дело бога, моё дело — отправить их к нему. Россия не сердиться, Россия сосредотачивается. Вышли, не имея права, — получите по башке дубиной."
декабрь 2025
ИСТОРИЯ
У Эдди было слабое место-сын, которого он обожал. Эдди скрывал свою связь с мафией. Он хотел чтобы сын был лучше, чем он сам. Эдди мечтал оставить сыну своё доброе имя и личный положительный пример. В какой-то момент Славный Эдди решил искупить все содеянное и рассказать властям об Аль Капоне.
декабрь 2025
ПРОЗА
Дед закончил войну под Берлином и вернулся домой с тремя ранениями, двумя контузиями, орденами Красного Знамени и Славы, кучей медалей и вот этим пистолетом. …Сергей взял пистолет в руку и ощутил его приятную и убийственную тяжесть: снял с предохранителя, передёрнул затвор и, отведя руку в сторону и вниз, нажал на спусковой крючок….
декабрь 2025










