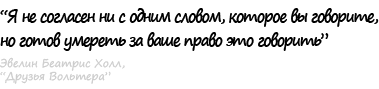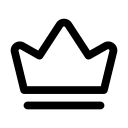ОЖИДАЕТСЯ ЖИЗНЬ
Опубликовано 13 Марта 2009 в 02:09 EDT
«Читайте Златовратского. Я его лично знаю, это порядочный человек» - давным-давно юмористически запомнилась рекомендация из автобиографической трилогии Горького, данная кем-то юному Алексею Пешкову. А между тем есть-таки опасность (и соблазн) именно к этому свести предисловие к той или иной книге: дескать, автор мне лично дорог и мил, замечателен – помимо им сочиненногo тем-то и тем-то. Стало быть, рекомендую!
Рудольф Ольшевский, Р у д и к был для меня как раз одним из самых милых и дорогих; был вообще одним из лучших людей, которых мне посчастливилось знать, и разлука с ним (та, первая, когда он пока всего лишь уехал – правда, далеко-далеко и, главное, навсегда) оказалась тем более драматичной, что, помимо прочего, явилась приметой общего крушения нашей прежней жизни, разрыва прежних связей. Тем не менее (или тем более) удержусь от мемуарности; надеюсь, что книгу будут читать и люди, лично с Ольшевским не знакомые, и я сам хотел бы быть п р о с т о читателем, постигающим поэта по тому, что он написал.
К тому же в книге немало такого, что и для меня, хорошо знающего стихи давние, открылось внове.
… Начав читать рукопись, еще не зная, к каким выводам приду, зацепился за строчки в стихотворении «Разбитые зеркала»:
И мама, будто облако, легка,
И тяжела, как облако весною,
Дождем, летящим мимо, или мною,
И слушает живот ее рука.
А в следующем стихотворении:
В белых одеждах родители ходят по саду,
Нас еще нет, только в них есть предчувствие нас.
Забегая вперед: будь моя воля, так бы и назвал эту книгу: «Предчувствие». Пуще того, по названию одного из стихотворений: «Ожидается жизнь». Да, э т у, увы, посмертную.
В самом деле:
Потом поймем, что мир не навсегда,
Узнаем после, что судьба конечна.
Ну а пока – шаланда и вода,
И все, что на земле и в небе, - вечно.
Положим, это стихи о юности, разрешающей не предвидеть ничего дурного, включая саму смерть. Однако:
Ко мне, я не знаю, откуда,
Чем старше я, тем голубей,
Приходит предчувствие чуда
Стучащим птенцом в скорлупе.
И это уже черта не возраста, а характера.
Ольшевский (как трудно мне называть покойного друга по фамилии!) на всю жизнь, кишиневскую и бостонскую, оставался одесситом. Даже не в смысле весьма ему свойственной живописности восприятия мира, хотя недаром Одесса родила Олешу, Катаева, Бабеля, а не, скажем, Платонова, - нет, главное то, что город детства, легендарный своей праздничностью, словно бы и провоцировал «предчувствие чуда». Вплоть до надежды чудо поторопить.
«Не открывай глаза, Кларка! Не открывай, потому что начнется судьба. Скучная работа в цирке с риском для жизни каждый день. Со ста граммами для смелости перед полетом под куполом. …Послушай, Клара, скрути в обратную сторону сальто и фляк на узкой дорожке времени. Давайте все попятимся назад и вернемся в те годы, когда судьба еще не начиналась». (Из книги «Поговорим за Одессу».)
Подобное, кажется, больше пристало не прозе, а поэзии, имеющей право пренебрегать правилами сугубой реальности, - зато в стихах, напротив, желание «попятиться» зафиксируется на уровне, достижимом для каждого из нас. Тем, впрочем, и выразительнее:
Тускнеющего света вдохновенье,
Предсумрачного часа красота.
Мне жалко, что вот-вот через мгновенье
В природе передвинутся цвета.
И яркая, и праздничная сила
Утратится, исчезнут чудеса…
Те самые, в предчувствии которых продолжается жизнь!
И станет все таким, как раньше было:
Водою – воды, небом –небеса.
(«Вода» - и «воды»: ощущаете разницу?)
Не только по склонности к ассоциациям вспоминаю прозу Евгения Шварца, запись монолога его маленькой дочки:
«Папа, все, что я делаю, - это только один раз. – Как так? – А больше этого никогда не будет. Вот провела я рукой. А если опять проведу – это будет второй раз. И мы с тобой никогда больше не будем сидеть. Потому что это будет завтра, а сегодня больше никогда не будет?»
У ребенка это – миг взросления, тем и значительный. «Растущее человеческое сознание», говорит Шварц. У взрослого поэта, чье сознание созрело, – это миг… Наоборот, детскости? Возвращения в детство?
Так да не так. «Детскость» - похвала слишком затрепанная, чтобы поэты, которым она адресуется, чувствовали себя польщенными. (Не говоря, конечно, об исключениях: «Он награжден каким-то вечным детством» - Ахматова о Пастернаке.) В данном случае можем смело говорить о своей – своей! – философии.
Да, «остановись, мгновенье». Но какое именно мгновение хочется остановить – или сожалеть, что оно неостановимо?
Человек, задержавшийся у Рубикона,
Чтоб охладить пересохшие губы в воде, -
таким и именно в этот миг захочет поэт вспомнить Юлия Цезаря (а не то, что вспоминают привычно, отчего и возникло ходовое выражение «перейти Рубикон»). И повторится в поэме «Встреча с бездной»: «Зачем пятидесятилетний Цезарь задумался у роковой реки?»
А с другой стороны, еще один персонаж «античных» стихов, Одиссей, н е з а д е р ж а в ш и й с я в славном прошлом, где Троя, Елена, полная жизнь воина, то есть, в сущности, не совершивший невозможного, будет чуть ли не с презрительным сожалением, до очевидности жестоко представлен как тот, кто себя потерял, кто всего лишь «старец, возвратившийся в Итаку». Так что ж, не возвращаться, что ли?
Проще простого истолковать эти стихи как горькое сожаление об уходящем времени (и разве не так?), о неизбежной старости, к которой ты заранее относишься неприязненно, - если бы… Если бы – что?
Повременим с ответом, ибо у поэта непростые отношения с временем. С возрастом.
Неудивительно, что поздние стихи Рудольфа Ольшевского жестче «молодых». Приходится то и дело, не в силах ни перепрыгнуть, ни подчас даже переплыть ее, медлить у «роковой реки» - ведь у каждого бывают свои Рубиконы. Не выходит останавливать мгновения счастья – дают себя знать новые и новые разрывы с безмятежным существованием. Сердце сжимается, как тем паче сжималось у поэта-отца, переживающего эмиграцию сына (отцовский отъезд «туда» покуда не замышлялся):
В пересохшей глотке привкус ржавый.
Телеобыск. Страшно оттого,
Что в замочной скважине державы
Виден череп сына моего.
Или – ощущение, при счастливом характере Рудика (все ж позволяю себе разок интонацию личного воспоминания) долгое время его не посещавшее… Ну, посещавшее не постоянно. Ощущение национальной отторженности:
Вырой возле отцовского дома колодец,
Но прольется когда золотая струя,
Не твоя это будет вода, инородец,
Можешь пить ее, только она не твоя.
Определив некогда как «странное наказание» - странное, непонятное, не подлежащее нормальному объяснению, – за что-то ниспосланую Богом утрату понимания и взаимопонимания («открыть калитку, постучаться в дом, позвать жену и не понять ответа… Как называлась изгородь вчера? Какое имя дерево имело?»), в дальнейшем приходится встречать «возраст беды», одиночества, когда «можно забывать постепенно слова», «Забываю предметов названья, будто я в этом мире один».
Почти в точности так же, как другой одессит, Олеша, неисчислимо богатый и щедрый на «названья», сравнения, метафоры, в рассказе «Лиомпа» изобразил оскудение мира, которое наступает с «возрастом беды»: «…Как велик и разнообразен мир вещей и как мало их осталось в его власти». А ведь для поэта вещность мира и есть богатство «названий». «…Он знал: смерть по дороге к нему уничтожает вещи».
Нет и не будет уже ребяческой веры в чудо бессмертия, приходится даже обращаться к вселенной, словно каясь в грехе: «…Прости из детства выкрикнутый шепот ребенка: «Никогда я не умру!». Но вот на уровне нового возраста, нового опыта трагедии и трагизма (что не одно и то же: перед трагедией, прежде всего трагедией конечности жизни, равны все, но ощутить трагизм как возможность осознать трагедию, даже увидеть в ней обнаженный смысл существования, это дано не каждому) возникает совсем не то, что в молодости составляло основу радости бытия:
Пока я видеть это небо буду,
И в море плавать, и топтать траву,
Не перестану удивляться чуду –
Случайной тайне той, что я живу.
Впрочем, здесь, скажем полушутя, - но не более, чем «полу», - словно ставятся чуду условия, при которых поэт согласен считать его чудом: «в море плавать… топтать траву…». Простительные
претензии плоти. И совсем другое дело – вот это:
Благодарю судьбу за сотворенье
Из ничего – из ветра и огня,
Из вечности незрячей на мгновенье,
На зрячее мгновение меня.
Кому, какой случайности обязан
За все, за то, что каплею одной
Плеснувший через край вселенной разум
Упал с небес и оказался мной.
И – вот, может быть, самое главное приобретение поэзии Рудольфа Ольшевского с ее , повторю, своеобразным трагизмом – осознание, что бытие, разумеется, не бессмертно, но… Хотя почему нет? А ежели как бессмертие, так сказать, в обратном движении – но уже без фантастических просьб скрутить в обратную сторону сальто?
А что – хорошо, одиноко, светло.
В душе не разорвана нить постоянства,
И видно, как время уходит в пространство,
В следы за спиной моей, в слово, в число.
И нет уже времени - есть времена.
И я, убежавший из крепости пленник,
Не только живущих сейчас современник,
А приговорен за побег этот на –
Остывшее солнце, слепящую даль,
Пустынную землю неведомой эры.
И море, и медленны весла галеры,
И не умещается в сердце печаль.
И эта судьба совмещается с той,
Которой еще не подвел я итога,
Где мама жила, где орех у порога,
Где приняло нас бытие на постой.
То есть:
Даже если когда-нибудь смерть суждена…
Отметим упорство – все-таки – нерасставания с детской надеждой,
что бы мы там ни говорили: «даже если когда-нибудь», тройная защита, привет от многократно осмеянного: « если кто-то кое-где у нас порой…» Все равно:
… Замечательно то, что мы в прошлом бессмертны.
И еще лапидарнее (поэма «Гипнотизер»): «Мы бессмертны в прошедшем».
Лукавое утешение (самоутешение?)
Нет, хоть не исключу этого вовсе. Еще раз скажу: тут философия, которую не назовешь презрительно доморощенной. Любительской. Слишком очевидна благодарная открытость радостям мира, напряжена духовная жизнь, серьезна попытка понять меру случайности и разумности самого факта существования.
…Должен признаться, что уже много лет назад я, дружа с замечательным прозаиком, человеком много старше меня, который панически боялся приближающейся кончины, специально для него придумал такое утешение: дескать, вот Вы, И.М., уже прожили намного больше того, чем, по-видимому, проживу я, – и какая это удача! Дата рождения – сущая условность, важна продолжительность, не говоря о наполненности, того отрезка времени, который Вам удалось отхватить, - «нет уже времени, есть времена…» Конечно, этих строк Ольшевского я, по незнанию их, не цитировал, но утверждал нечто подобное, радуясь, что – действует!
Пока не понял, что, утешая, нечаянно сказал чистую правду. Распространяющуюся, в частности, и на меня самого.
Рудольф Ольшевский эту правду выразил не по нечаянности, не для красного словца, он ее взлелеял и выстрадал, а процесс ее постижения и открытия есть как раз то, что делает поэзию – поэзией. (Которая всегда процесс, а не набор самых красивых метафор и умных мыслей.)
Кажется, чуть ранее я сгоряча сказал: мол, трагизм, в отличие от трагедии, доступен не каждому. Собственно, так и есть – с одной существенной оговоркой. Дело настоящей поэзии состоит в том, что она, не кичась своей обособленной элитарностью, делает достоянием именно всякого то, что сама чувствует, сознает, открывает. Разумеется, всякого из тех, в свою очередь избранных, кто способен подобное воспринять. И та ясность сознания жизни, смерти, бессмертия, которую обретал и обрел Рудольф Ольшевский, мой Рудик, для меня – в ы с о к и й и н с т и н к т н р а в с т в е н н о г о с а м о с о х р а н е н и я, который необходим человеку (каждому!), чтобы быть человеком. Выше бери: человечеству, чтобы не оскотиниться.
Допускаю, что в иной ситуации я вычитал бы в книге нечто иное: она многомысленна. Возможно, вытянуть то, что я вытянул, подтолкнуло меня заново испытанное чувство потери, обостренное встречей с «душой в заветной лире». Хотя урок – простите немодное слово, - данный поэтом, который радостно жил, предчувствуя, торопя добро, многое утратил и из сочетания предчувствий и утрат создал действительно философию – еще одно неуважаемое ныне слово – жизнеутверждения, этот урок в нашем безрадостном мире кажется мне бесценным.
Напоследок, простите, о своем, частном, может быть, и необязательном.
В одном из «американских» стихотворений, исполненном ностальгии, вспоминаются друзья, ушедшие или оставленные. Например:
Чтоб на кухне в полшаге от славы
Пили пасынки СССР.
И звучала струна Окуджавы,
И смеялся Фазиль Искандер.
Чтобы был у работы украден
Зимний вечер. От пушкинских строк
Друг сердечный мой, Стасик Рассадин,
Чтоб всплакнул, удержаться не смог.
Рудик, я и всплакнул. Спасибо.
2008, Москва
Слушайте
ФОРС-МАЖОР
ДЕТЕКТИВ
Отношения с мужем натянулись еще сильнее. Ричард, правда, стал вежливым, но Лиза понимала, когда адвокат вежлив, значит что-то варится.
декабрь 2025
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
"Россия такая страна, которая ничего не боится. Простить террористов — это дело бога, моё дело — отправить их к нему. Россия не сердиться, Россия сосредотачивается. Вышли, не имея права, — получите по башке дубиной."
декабрь 2025
ИСТОРИЯ
У Эдди было слабое место-сын, которого он обожал. Эдди скрывал свою связь с мафией. Он хотел чтобы сын был лучше, чем он сам. Эдди мечтал оставить сыну своё доброе имя и личный положительный пример. В какой-то момент Славный Эдди решил искупить все содеянное и рассказать властям об Аль Капоне.
декабрь 2025
ПРОЗА
Дед закончил войну под Берлином и вернулся домой с тремя ранениями, двумя контузиями, орденами Красного Знамени и Славы, кучей медалей и вот этим пистолетом. …Сергей взял пистолет в руку и ощутил его приятную и убийственную тяжесть: снял с предохранителя, передёрнул затвор и, отведя руку в сторону и вниз, нажал на спусковой крючок….
декабрь 2025